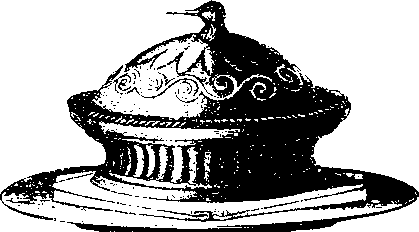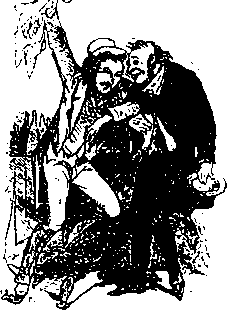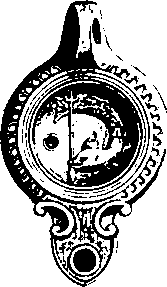Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Директории, генерала барраса. Декади 30 флореаляСодержание книги
Поиск на нашем сайте
12 человек 1 суп 2 жарких 1 горячее 6 антреме 6 закусок 1 салат 24 блюда на десерт Луковый суп из мелких луковичек На горячее кусок осетра на вертеле ШЕСТЬ ЗАКУСОК Соте из филе тюрбо доверенному человеку, бывшему метрдотелю Угорь по-татарски Огурцы, фаршированные костным мозгом Волован из белой дичи, соус бешамель Бывший Сен-Пьер, соус с каперсами Филе перепелки колечками ДВА ЖАРКИХ Из пескарей, пойманных в департаменте Из карпа в пряном отваре ШЕСТЬ АНТРЕМЕ Снежки из яиц Белая свекла, тушенная с ветчиной Желе с мадерой Блинчики с кремом из апельсинового цвета Чечевица по рецепту бывшей королевы, с кремом из телячьей подливки Донца артишоков с соусом равигот Салат из сельдерея с острым соусом Слишком много рыбы. Уберите пескарей. Остальное хорошо. Надо, чтобы не забыли положить подушки на места для гражданок Тальен, Тальма, Богарне, Энгерло и Миранды. Начало точно в пять часов. Подпись: БАРРАС Велите привезти мороженое Велони, я не хочу другого. Отразилась ли галантность Барраса на его репутации? Женщины взяли его под свою защиту, и от члена Директории и генерала остался элегантный красавец Баррас. Дело было не в его коррумпированности, а в миллионах, которые он вытянул у Франции. Сколько отпущений грехов скрыто под словами: «Положите подушки на места для гражданок Талльен, Тальма, Богарне, Энгерло и Миранды». Мадемуазель Конта создала себе репутацию хозяйки элегантного дома, приказав подавать горячие блюда на подогретых тарелках.
Долгое правление Людовика XV было таким же монотонным, как готовка еды. Один лишь г-н де Ришелье добавил некоторое разнообразие в эти ароматы, в эти цветы и фрукты, которые никогда не менялись. Он придумал колбаски а ля Ришелье, байонские соусы, которые наши рестораторы, упорно продолжают называть махонскими под тем предлогом, что они были сделаны накануне или на следующий день после взятия Махона. Правда, наряду с этим мы имеем соус бешамель и котлеты в соусе субиз. Это казалось тем более долгим, что мы выходили из полной духовного начала эпохи регентства, когда все были молоды, полны остроумия и имели крепкий желудок. Регентство было во Франции прелестной эпохой: в течение 7 или 8 лет люди жили, чтобы пить, есть, любить. Затем, однажды вечером, когда регент вел приятную беседу с мадам де Фаларис, — «своим вороненком», как он ее называл, — голова его вдруг стала тяжелой, и он склонил ее на плечо своей прекрасной куртизанки, произнося: «Верите ли вы, мой прелестный друг, что попадете в ад?» «Если я окажусь в аду, надеюсь вновь встретить там вас». Регент не ответил. Он уже был там! После смерти регента его место занял принц: это был некрасивый одноглазый человек, принадлежавший к захудалой ветви дома Конде. Он получил от природы такое количество добродетелей, которое не позволяет принцам быть повешенными не потому, что они честные люди, а потому, что они принцы. Он и его любовница, дочь откупщика налогов Пленёфа, истратили примерно год на то, чтобы проесть остававшиеся в сундуках Франции деньги. После этого, за неимением денег, они принялись проедать и саму Францию. Так что времена регентства принца Конде ели много, но неважно. Один умный человек, врач-гомеопат, говорил мне однажды, что в изменениях пищи отдельных народов можно найти различные стадии, имеющие отношение к медицине. Так, при Людовике XIV, в эпоху, когда во Франции ели не очень жирную пищу, когда кофе еще не вошел в обиход, чай не был в моде, а шоколад только что изобрели, люди полнели, и любая болезнь, как говорят врачи, происходила «от жидкостей организма». Тогда и появилась медицина доктора Фагона. Можно и не говорить, что Фагон Людовика XIV и Пургон Мольера — это одно и то же лицо: кровопускание, слабительное, клистир — clysterium donare. Людовик XIV прочищал свой желудок дважды в месяц, очищая при этом одновременно и голову. Это приводило его в столь хорошее расположение духа, что просители ждали его со своими прошениями каждого 15-го и 30-го числа, прямо у выхода из клозета. Медицина такого типа просуществовала с переменным успехом около ста лет. Затем пришел гений, оказавшийся одновременно славой и несчастьем Франции, — Наполеон I. Когда он пал, по всему пространству Франции разбрелись пятьдесят тысяч офицеров, не имевших иного будущего, чем заговоры. Кровь их сжигала ненависть, и занимались они свержением правительства, попивая кофе, водку и пунш. Тогда появился Бруссе, гениальный человек, утверждавший, подобно Фагону: все дело в «жидкостях организма» — будем прочищать желудки. Все дело в крови — будем делать кровопускания. И он пускал кровь, и на протяжении большого периода при кровопусканиях из заговорщиков вытекала кровь, сгоравшая от ненависти, пунша и кофе. Для кровопусканий использовали не только ланцет, но и кинжал, и топор палача. Эпоха Людовика XVIII, со своей Тайной палатой, была почти периодом террора. Только его назвали белым террором. Затем наступило кратковременное правление Карла X и Революция 1830 г. Республика поднималась вверх, как колосья в апреле. Но лучшие умы обратились к спекуляции. И среди последних учеников Гастера, с каждым днем становившихся все более дисциплинированными и ходивших в обеденные залы министров, родились адепты Биржи, у которых на смену ужасам заговоров появились волнения по поводу взлетов и падений биржевых курсов.
Те, кто проигрывал (а их всегда бывает больше, чем выигрывающих), возвращались домой, нервно вздрагивая, и дрожь эта была у них в глазах, на челе и во рту. Их жены и дочери, непрерывно видя перед собой озабоченных и страдающих мужчин, судорожно зевали, вплоть до вывиха челюстей. У них спрашивали: «Что с вами?» — а бедные женщины, не осмеливаясь признаться, что отец или муж наводят на них сон, отвечали: «У меня нервы». В этот момент в столь наэлектризованном обществе появился немецкий врач-гомеопат Ханеман. Если Фагон говорил: «Все дело в жидкостях, прочистим желудки», Бруссе утверждал: «Все дело в крови, устроим кровопускание», то Ханеман сказал: «Все дело в нервах, будем их успокаивать». И гомеопатия сделала первые шаги в своей медленной, спокойной и невидимой карьере, которая ей была предназначена. Мы пришли в мир одновременно с нею и имели честь стать ее современниками. Мы были современниками, поставленными в довольно затруднительное положение в смысле наших политических пристрастий. Мы не могли быть приверженцами Наполеона, поскольку он дважды пал с трона под проклятья наших матерей. Мы не могли быть и сторонниками Бурбонов, потому что Людовик XVIII умер с репутацией бессердечного человека, никогда не умевшего прощать, а Карл X был изгнан как король ленивый и глупый. Мы не очень хорошо были знакомы с историей Франции, но тем не менее знали, что глупые и ленивые короли встречались с самого ее начала. Нам только что предложили нового, который должен был стать образцовым королем, поскольку создавался всем, что было самого богатого и самого умного во Франции. Мы еще не могли стать его фанатичными сторонниками, поскольку он пока не представил никаких доказательств своей исключительности. Поэтому нам оставалось любить две вещи: свободу и искусство. Мы бросились в эту новую религию, которая привлекала нас двумя неизвестными доселе словами. Искусства почти не было, а свободы не было вовсе. Мы чувствовали разумность родины, находившейся под угрозой: как и в 1792 г., происходила добровольная вербовка. Никто из этих новых солдат искусства и свободы не был богат; некоторые занимали места с жалованьем в 1000–1500 франков. Сотня луидоров была пределом мечтаний, на что и самые честолюбивые не смели надеяться. Мое самое высокое жалованье возросло и достигало, на момент моего ухода в отставку 8 августа 1830 г., 166 франков 66 сантимов в месяц. Сколько вы зарабатываете, друг мой? Вы тоже навряд ли очень богаты. Есть ли способ думать о гастрономии, имея 4 или 5 франков на день? Нет! Надо было думать о более неотложном, прежде чем думать о еде, следовало подумать о том, чтобы выжить. Так каждый из нас оказался в положении человека, заснувшего на неизвестной равнине. На рассвете он просыпается, окруженный туманом, который постепенно рассеивается, давая каждому разглядеть дорогу, по которой ему предстоит идти.
Год спустя стали говорить: Что делает Ламартин? — Пишет свои «Новые размышления». Что делает Гюго? — Пишет «Марион Делорм». Что делает Мери? — Пишет «Виллелиаду». Что делает де Виньи? — Пишет «Маршала д’Анкра». Что делает Барбье? — Пишет свои «Ямбы». Что делает де Мюссе? — Пишет свои «Испанские и итальянские сказки». Что делает Роже де Бовуар? — Пишет «Школьника из Клгони». Что делает Жанен? — Пишет «Варнаву». Что делает Дюма? — Он повторяет «Генриха III». Так каждый из нас нашел дорогу, по которой должен был идти. Однако у некоторых проявились склонности к гастрономии. Это не были трудящиеся, но люди духа: Верон, Нестор Рокплан, Вьей-Кастель, Ромьё, Руссо. Только один оказался достаточно богат или зарабатывал достаточно денег (что сводится к тому же), чтобы хорошо питаться по-старому, то есть стать истинным гастрономом. Другие заняли промежуточное положение и, не будучи достаточно богатыми для истинной гастрономии, стали гурманами или тонкими знатоками хорошей кухни. И, наконец, остальные, кто зарабатывал деньги от случая к случаю, в зависимости от того, удачным ли оказался водевиль или принята ли в газету серия статей, сделались жуирами. Верон постоянно жил в Парижском кафе, давая большие обеды по мере того, как его состояние возрастало; но обеды он устраивал у себя дома. Ромьё, де Вьей-Кастель, Роже де Бовуар питались на Бульварах, неважно, было ли это Английское кафе, Мезон д’Ор, У Вашетт, У Гриньона и т. д.; другие ели, где могли. Впрочем, эти другие были скорее потребителями напитков, чем еды, они шли больше по пути пьяниц, чем дорогой гурманов. Но все они, надо это признать, были замечательными умами, создавшими общество 1830–1850 гг. Весь Париж знал людей, которых я только что назвал, и, поскольку они были известны всему Парижу, о них знал весь мир. Привычка к обедам и ужинам, единственная, о которой я сожалею, настолько утратилась среди нас, что ни разу этих людей столь возвышенного, столь приятного и образованного ума не посетила мысль собраться за обедом; и я не думаю, чтобы они хоть раз оказались все вместе. Умирая, Дезожье унес с собой в могилу ключ от последнего винного погреба. Но я помню историю, доказывающую, что среди нас оставались достойные последователи Гримо и де Кюсси. Однажды на полусветском-полуартистическом собрании виконт де Вьей-Кастель, брат графа Горация де Вьей-Кастеля, один из самых тонких знатоков хорошей кухни во Франции, рискнул сделать следующее предположение: — Один человек может съесть обед стоимостью в 500 франков. — Это невозможно! — воскликнули присутствующие. — Разумеется, — продолжал виконт, — под словом съесть подразумевается и выпить. — Черт возьми! — вскричали присутствующие. — Итак, я говорю, что один человек — и говоря про одного человека, я не имею в виду извозчика, а подразумеваю тонкого гурмана, ученика Монтрона или Куршана — так вот, я утверждаю, что один такой гурман, ученик Монтрона или Куршана, может съесть обед стоимостью в 500 франков. — Например, вы? — Я или кто-нибудь другой. — А вы сможете? — Разумеется. — Вот у меня 500 франков, — сказал один из присутствующих. — Надо все точно оговорить. — Ничего нет проще: я обедаю в Парижском кафе, делаю заказ по своему усмотрению и съедаю обед за 500 франков. — Ничего не оставляя на блюдах или в тарелках? — Я буду оставлять кости! — О, верно! — И когда же состоится это пари? — Завтра, если вам угодно. — Значит, вы не будете завтракать? — осведомился один из присутствующих.
— Я позавтракаю как обычно. — Хорошо. Завтра в 7 часов в Парижском кафе. В тот же день виконт по своему обыкновению отправился обедать в фешенебельный ресторан. Затем, после обеда, чтобы не оказаться под влиянием голодных спазмов желудка, он счел своим долгом набросать завтрашний заказ. Он вызвал метрдотеля. Дело было в разгар зимы. Виконт заказал много фруктов и ранних овощей. Охота была закрыта, но он пожелал дичи. Метрдотель попросил неделю срока. Обед был отложен на неделю. Справа и слева от стола виконта должны были обедать судьи. Для обеда у виконта было 2 часа: от 7 до 9 часов. По своему выбору он мог разговаривать или не разговаривать во время еды. В назначенный срок виконт вошел в зал, поклонился судьям и занял место за столом. Его заказ держался в секрете от противников. Они должны были получить удовольствие от сюрприза. Виконт сел. Ему принесли 12 дюжин остендских устриц и полбутылки иоганнисбергского вина. Аппетит у виконта был отменным: он заказал еще 12 дюжин остендских устриц и еще полбутылки того же вина. Затем пришел черед супа из ласточкиных гнезд, который виконт вылил в плошку и выпил, как бульон. — Право же, господа, сегодня я чувствую себя в форме и хочу позволить себе некую фантазию. — Делайте что хотите, черт побери, вы в своем праве. — Я обожаю бифштекс с яблоками. — Господа, пожалуйста, без советов, — раздался чей-то голос. — Официант! — позвал виконт. — Один бифштекс с яблоками. Удивленный официант уставился на виконта. — Вы что, не понимаете? — спросил тот. — Конечно, понимаю, но, кажется, господин виконт уже сделал свой заказ? — Верно, но я хочу дополнительное блюдо и заплачу за него отдельно. Судьи переглянулись. Принесли бифштекс с яблоками, который виконт проглотил до последней крошки. — Итак, теперь рыбу! Принесли рыбу. — Господа, — сказал виконт, — это рыба из Женевского озера. Она водится только там, но ее тем не менее можно достать. Мне ее привезли сегодня утром, когда я завтракал. Она была еще жива, ее везли из Женевы в Париж в озерной воде. Рекомендую вам эту рыбу, она необыкновенно вкусна.
Через 5 минут на тарелке оставался только рыбий хребет. — Официант, фазана! — попросил виконт. Принесли фазана с трюфелями. — Вторую бутылку бордо, того же разлива. Подали вторую бутылку. Фазан был проглочен за 10 минут. — Месье, — произнес официант, — я думаю, вы ошиблись, попросив принести фазана с трюфелями перед сальми из овсянок. — Вот незадача, и верно! К счастью, не было сказано, в каком порядке будут съедены овсянки, иначе я бы проиграл. Сальми из овсянок, официант! Подали сальми из овсянок. Там было десять овсянок, виконт проглотил их десятью глотками. — Господа, — объявил виконт, — мой заказ очень прост. Теперь пойдут спаржа, зеленый горошек, ананас и земляника. Что касается вин, то я заказал полбутылки констанцского вина, пол бутылки хереса из Индии, затем, разумеется, будут кофе и ликеры. Каждое блюдо появилось в свою очередь: овощи и фрукты были добросовестно съедены, а вина и ликеры выпиты до последней капли. На обед виконту понадобился один час 14 минут. — Господа, — спросил он, — все ли было сделано правильно? Судьи признали это. — Официант, мой заказ! В то время еще не говорили счет. Виконт взглянул на общую сумму и передал заказ судьям. Вот этот заказ: Остендские устрицы, 24 дюжины 30 фр. Суп из ласточкиных гнезд 150 фр. Бифштекс с яблоками 2 фр. Рыба из Женевского озера 40 фр. Фазан с трюфелями 40 фр. Сальми из овсянок 50 фр. Спаржа 15 фр. Зеленый горошек 12 фр. Ананас 24 фр. Клубника 20 фр. ВИНА Иоганнисберг, 1 бутылка 24 фр. Бордо, лучшего разлива, 2 бутылки 50 фр. Констанца, полбутылки 40 фр. Херес из Индии, полбутылки 50 фр. Кофе, ликеры 1 фр. 50 с. Итого: 548 фр. 50 с. Судьи проверили счет, он оказался правильным. Заказ отнесли противнику виконта, обедавшему в отдельном кабинете в глубине зала. Спустя 5 минут он вышел, поклонился виконту, вытащил из кармана 6 тысячефранковых купюр и протянул их виконту. Это был его выигрыш. — О, месье, — воскликнул виконт, — это не к спеху! Впрочем, быть может, вы пожелаете взять реванш. — А вы бы дали мне такую возможность? — Несомненно. — Когда же? — Сию минуту. Помните ли вы нашего бедного Роже — не скажу, что самого остроумного из всех нас (там, где бывали вы, дорогой друг, там, где бывал Мери, не существовало никого, более остроумного, нежели великие умы, которые я только что называл), но одного из наиболее остроумных и наверняка самого шумного среди нас. Глядя на него, я сделал наблюдение, которое передаю теперь любителям: с начала до конца обеда он обычно пил лишь охлажденное шампанское. Поэтому в начале трапезы, когда остальные были поглощены лишь тем, чтобы удовлетворить свой аппетит, он развлекал их бесконечными байками и анекдотами. По мере того как обед продвигался и другие гости начинали веселиться, он делался серьезным, молчаливым, иногда мрачным. Я видел, как он засыпал. Было ли это из-за шампанского, которое в первые моменты своего действия возбуждает, а в последующие приводит в уныние? Это было бы дурной шуткой со стороны содержащегося в шампанском кислого углекислого газа.
Почему же, в противоположность этому, остроумие Мери, который пил только бордо, да и то в довольно малом количестве, возрастало по ходу трапезы и делалось все более тонким по мере того, как он пил? Я думаю, вы знали этих двух жуиров — почти братьев Ромьо и Руссо, начинавших подобно Дамону и Пифию, а закончивших, как Этеокл и Полиник. Еще одна вина политики: друзей разлучила должность суперфекта. На протяжении десятилетия в Париже часто говорили о двух приятелях — Руссо и Ромьо, поочередно превосходивших один другого в подвигах: каждое утро рассказывали новую историю, в основе которой было их гастрономическое воображение. Однажды вечером Ромьо вошел в бакалейную лавку, попросил один ливр свечей, велел разрезать их на кусочки по 10 см длиной и заострить концы. Поставил свечи на прилавок, потребовал спички и зажег все свечи. Бакалейщик смотрел на него с любопытством и удивлением. Затем Ромьо взял свою шляпу, которую перед этим положил на прилавок. — В чем дело, месье? — спросил лавочник. — А что? — Вы уже уходите? — Конечно, ухожу. — Не заплатив? — А в чем бы состояла шутка, если бы я заплатил?
Бакалейщик хотел его догнать, но для этого требовалось выйти из-за прилавка, а Ромьо быстро бегал. В другой раз спрашивали: — Вы знаете, что проделал Руссо сегодня ночью? — Нет, а что именно? — Приходит он в магазин «Два окурка» («Дё Маго») и спрашивает хозяина. — Хозяин спит. — Это не имеет значения! Дело настолько важное, что Руссо потребовал, чтобы его провели в спальню хозяина, сказав, что дело чрезвычайной важности и что он должен сказать ему пару слов без свидетелей. Приказчики посоветовались между собой, и один из них взял на себя смелость войти в спальню. Через минуту Руссо позволили войти. Руссо зашел и увидел торговца в одежде, соответствующей моменту: глаза у него слипались, а на голове — ночной колпак. — Месье, — сказал Руссо торговцу, взирающему на него с крайним изумлением, — я должен сообщить вашему компаньону крайне важное известие. — Но, мой господин, — ответил хозяин, — у меня нет компаньона. — Тогда, месье, — воскликнул Руссо, — нечего называть свой магазин «Два окурка» и морочить публике голову! Однажды вечером патруль подобрал мертвецки пьяного Руссо возле каменной тумбы, где он лежал, прислонившись головой к стене. Рядом горел фонарь. Руссо обедал вместе с Ромьо, оба вышли из кабаре, хорошо нагрузившись. Ночной воздух подействовал на Руссо сильнее, чем на Ромьо, и Руссо споткнулся три или четыре раза. Ромьо понял, что ему придется провожать Руссо до дому, поскольку из них двоих Ромьо был менее пьян. Однако он решил избавить себя от этой тяжкой обязанности. Купив в лавке фонарь, за который он на этот раз уплатил, Ромьо уложил своего приятеля около тумбы, поставил на тумбу фонарь и удалился со словами: «Теперь спи, сын Эпикура, никто тебя не задавит». В таком положении патруль и обнаружил Руссо, в руке у которого было 4 или 5 су. Это добрые души, принявшие его за несчастного бедняка, подали ему милостыню. Тем временем примерно на середине между пятнадцатой или шестнадцатой сменой правительств, которые я пережил за свою жизнь, одно из правительств, очевидно питавшее слабость к прожигателям жизни, отдало в руки Ромьо некую супрефектуру. Обещание было ему дано, но он никому о нем не говорил, не надеясь, что какое-нибудь правительство осмелится сделать из него представителя закона. И вот, в одно прекрасное утро Руссо прочел в газете, что Ромьо стал супрефектом. Сам Руссо уже долгое время хотел упорядочить свою жизнь и искал себе место. Он подпрыгнул от радости, кинулся к Ромьо и нашел его в постели с газетой в руках. — Ну, — воскликнул Руссо, — так ты теперь супрефект? — И не говори, дорогой друг! — отвечал Ромьо. — Похоже, что так и есть, раз я читаю об этом в газете. — Ах, тем лучше! — Что лучше? — Но мы же станем самыми счастливыми людьми на свете: я последую за тобой, сделаюсь твоим секретарем и на наши жалованья в маленьком провинциальном городке мы заживем, как короли. — Как! — вскричал Ромьо растроганно. — Ты принесешь ради меня такую жертву? — Ну, разумеется! — И ты последуешь за мной в эту ссылку? — Буду счастлив! — Ну что ж, приходи ко мне завтра утром, я все выясню, и тогда все решим. И со слезами на глазах, будто бы тронутый преданностью Руссо, Ромьо протянул к нему руки. Руссо бросился к другу, и они обнялись. На следующее утро Руссо явился с самого утра. — Ну так что? — спросил он. — Да вот, понимаешь ли, мой дорогой Руссо!.. — отвечал жалобным голосом Ромьо. — В чем дело? — Мне сообщили ужасную вещь, которая помешает нам осуществить все наши благие намерения. — А что такое? — Да мне сказали, что ты пьешь. Руссо посмотрел на него с изумлением, вскрикнул и удалился почти в ужасе. Перед его глазами во всей своей жуткой глубине только что открылась одна из пропастей человеческого сердца — пропасть лицемерия… Увы, общество любителей хорошей кухни и хороших вин, которое пришло на смену обществу, появившемуся в период Реставрации, закончило свои дни. Сегодня от всего этого мира, мой дорогой Жанен, остались лишь мы с вами, никогда не бывшие истинными любителями и знатоками хорошего вина и хорошей кухни. Остальные уже умерли: и Роже де Бовуар, и Мери, и Вьей-Кастель, и Ромьо, и Руссо, и де Мюссе, и де Виньи.
Праздничная скатерть 1830 г. в 1869 г. превратилась в погребальный саван. Есть станут всегда, но уже не будет тех обедов и особенно — ужинов… Примерно в 1844 г. или 1845 г. меня охватили угрызения совести: нельзя же просто так, не пытаясь сохранить их в памяти, дать исчезнуть столь великолепным ужинам, на которых царили остроумие и непринужденность. Моими друзьями были почти все творческие люди эпохи: талантливые художники, модные музыканты, любимые публикой певцы. Я заказал стол на 15 персон и предложил 15 друзьям собираться по средам от 11 часов до полуночи у меня дома, прося их предупреждать меня за 3–4 дня, если кто-нибудь не мог прийти, чтобы место не пустовало. Почему я выбрал ужин, а не обед? Почему я назвал полночь вместо 7 часов вечера? Прежде всего потому, что большинство моих гостей, принадлежащих к миру театра, по вечерам бывали заняты. И еще и потому, что я заметил: ужин одинаково удален от дел как сегодняшнего, так и завтрашнего дня, поэтому он оставляет уму всю его независимость. И, наконец, потому, что лишь очень немногие вещи, которые могут делаться в полночь, нельзя сделать в 2 часа ночи. Как правило, на этих ужинах подавали паштет из дичи, жаркое, рыбу и салат. Заметьте, что я должен был бы поставить рыбу перед жарким. В это время я еще охотился, и на паштет шли 4–5 перепелок, заяц и пара кроликов. Жюлиан готовил этот паштет с непревзойденным искусством. Для рыбы, зажаренной в масле, я придумал соус, пользовавшийся большим успехом. Дюваль поставлял мне ростбифы, которые были настоящими четвертями туши. И, наконец, я готовил салат, который настолько нравился моим гостям, что когда Ронкони не мог прийти, он присылал за своей долей салата, который ему приносили в случае дождя под громадным зонтиком, чтобы ни одна капля воды не попала в этот салат. «Как, — скажете вы мне, мой дорогой Жанен, — вы, столь слабый на практике и такой сильный в теории, как могли вы сделать салат одним из главных блюд вашего ужина?» Дело в том, что мой салат был совсем не таким, как все салаты. К сожалению, в книге, которую я только что представил публике, нельзя сохранить все детали, и я себя упрекаю в том, что несколько пренебрег статьей о салатах и не отвел в ней упомянутому салату то место, которого он заслуживает.
Вернемся к этому салату и поговорим для начала о салате вообще, а затем атакуем различные виды салатов в частности. Поймите меня правильно: я пользуюсь общепринятым словом, желая сказать «рассмотрим», а не «совершим враждебные действия». Господь хранит меня от враждебных действий по отношению к любому салату. В кулинарии, как и в литературе, я эклектик, в религии же я пантеист. Однако, подобно Сен-Фуа, который считал, что баварка — это пропавший ужин, я считаю, что салат не является для человека естественной пищей, несмотря на человеческую всеядность. Только жвачные животные рождены для того, чтобы пережевывать сырую траву. Но ведь салат, сведенный к своей простейшей форме, и представляет собой сырую траву. Доказательство этому в том, что наш желудок совершенно не переваривает салат, поскольку желудок выделяет лишь кислоты, а сырая трава растворяется только в щелочах, как почти все продукты питания, проходящие через желудок, не нуждаясь в желудочных соках, а вернее — без того, чтобы эти соки ими занимались. Миновав желудок, эти продукты оказываются под действием поджелудочной железы и печени. Овидий утверждает, что человек получил от Бога возвышенное лицо, os sublime, и создан не для того, чтобы жевать траву, а для того, чтобы смотреть на небо, — по словам того же Овидия. Правда, если бы человек проводил свою жизнь, все время глядя в небо, он бы удовлетворял свой голод еще в меньшей степени, чем если бы жевал траву. Есть пословица, в которой о дураке говорится: «Он настолько глуп, что готов жевать сено» («глуп, как теленок, как осел»). Следует, впрочем, признать, что желудок устроен одинаково и у дураков, и у умных людей. Что до мозгов, то они у них очень разные, а это доказывает нам, что мозги созданы не для пищеварения. Вот, кстати, каковы последние открытия науки, касающиеся мозгов. У гориллы мозг весит 450–600 г, у идиота — 1100 г, а у новозеландского дикаря, то есть человека, наиболее близкого к обезьяне, его вес составляет 1200 г. Европеец, которого студент из Гейдельберга окрестил филистером, а парижский беспризорник относит к буржуям, занимающий на шкале интеллектов следующую за новозеландским дикарем ступень, имеет мозг весом в 1300 г. Мозг Бюффона весил 1800 г, Наполеона и Кювье — по 2000 г.
Вес головного мозга академика колеблется от 1300 до 1800 г, иными словами — между филистером и Бюффоном. Можно было бы подумать, что это зависит от того, с какой буквы начинается его имя или фамилия. Дело обстоит совсем не так: у господ Вильмена и Вьенне обе фамилии начинаются с В, но у одного из этих господ (не скажу, у кого именно) мозг наверняка на 200 или 300 г тяжелее, чем у другого. Но у них обоих имеется всего 35–36 футов тонкого кишечника. Ясно, что ни тот ни другой не приспособлены к тому, чтобы питаться сырой травой. Есть траву — предназначенье коров и быков, конкурирующих за звание «жирной говядины». Поэтому у них есть четыре желудка и 135–140 футов тонких кишок. Вдобавок, чтобы довести их вес до 1300 кг, приходится ежедневно давать им пить до 80 л воды — не то, чтобы они росли и жирели от воды, но, разбавляя пищу, вода предоставляет органам пищеварения возможность извлекать из нее питательные компоненты и поглощать их. Лев и тигр, которые питаются не сырой травой, а мясом животных, имеют тонкий кишечник длиной всего в 15 футов и никогда не жиреют, потому что в сутки не выпивают и одного литра воды. Возможно, я ошибаюсь на несколько сантиметров относительно длины кишечника в семействе кошачьих. Однако, должен вам признаться, мне никогда не приходило в голову отправиться измерять длину тонких кишок у тигра или льва. Я говорю об этом на основании слухов. Цель всего этого рассуждения — доказать, что человек не рожден для того, чтобы есть салат, и лишь издержки цивилизации привели нас к этому. В поддержку моей точки зрения свидетельствует тот факт, что во многих домах из салата делают приложение к жаркому. Попробуйте съесть салат с хорошо замаринованным бедрышком белки, с достаточно выдержанным фазаном или с бекасами, выложенными на гренки! Это будет чистой воды кулинарная ересь. Одно блюдо портит другое.
Любую дичь отменного вкуса следует есть безо всего, только с соусом, который логически получается из сока этой дичи. Но еще большей ересью (скажем крепкое слово: кулинарным богохульством) будет поручить приготовление салата слуге. Заметьте, эта привычка проникла в лучшие — нет, я ошибаюсь, в самые великие кухни. Но ведь для этого сложного дела требуется врач или, по крайней мере, химик! Какое грустное зрелище нередко представляют собой эти салаты! Вспомните: вы ведь ели на торжественных обедах в городе салаты, в которые чудак в вязаных перчатках положил вам две щепотки соли, щепотку перца, ложечку уксуса и две ложечки растительного масла? Самые утонченные добавляют туда еще и ложечку горчицы. И в какой же момент вам подают это ничтожное блюдо? Именно в тот, когда на три четверти утолив свой голод, вы нуждаетесь в аперитиве, чтобы вернуть утраченный аппетит. Так что заправлять это непокорное блюдо полагается хозяину или хозяйке дома, если они достойны этого священнодействия. И это действие должно выполняться за час до того, как надо будет взяться за салатницу и есть салат. В течение этого часа салат полагается перемешивать три или четыре раза. Но прежде чем обратиться к салату и надолго остаться в пределах этой темы, мы должны предать анафеме манеру подавать за столом «по-русски». Этот способ состоит в том, что вам показывают блюдо, которое вы сейчас будете есть (под блюдом я понимаю его содержимое), а затем вдали от стола его разрезает слуга. Он же и кладет вам на тарелку не тот кусок, который вы были бы рады съесть, а тот, который ему понравится. Я знаю, что на обеде ценой в 400 франков такой способ позволяет сэкономить 100 франков. Но обеды не устраивают, стараясь сэкономить. Считается, что если бы на торжественном обеде каждому была предоставлена возможность самому взять цыпленка, то первые из гостей, начавшие класть его в свои тарелки, захватили бы крылья. Но здесь есть ошибка. У жареного цыпленка, особенно на мой взгляд, существуют и другие части, более вкусные, чем крылышки. Правда и то, что они были бы предназначены для знатоков. Итак, покончим с салатом. Вот определение, которое дает салату, а вернее, салатам, «Словарь французской кухни» — лучшая из известных мне книг на эту важную тему: САЛАТЫ «Салаты состоят из огородных зеленых растений, к которым добавляют некоторые ароматические травы и заправляют солью, белым перцем, растительным маслом, уксусом и иногда — горчицей и соей». «Французский кулинарный словарь» продолжает: «Салаты различаются в зависимости от сезона. В конце осени начинают есть цикорный салат. С этим видом салата обычно не смешивают никакую другую салатную зелень, а довольствуются тем, что на дно салатницы кладут небольшой кусочек черствого хлеба, натертого чесноком — этого достаточно для заправки такого салата». Как видите, я специально подчеркнул эти два слова: салатная зелень. В самом деле, менее точный и менее научный учебник написал бы просто зелень, потому что его автор мог и не знать, что травы делятся на три категории, как мы уже сказали в главе, посвященной этой теме: ОВОЩНАЯ ЗЕЛЕНЬ ТРАВЫ-ПРИПРАВЫ (ПРЯНЫЕ ТРАВЫ) ТРАВЫ ДЛЯ САЛАТА ИЛИ САЛАТНАЯ ЗЕЛЕНЬ К овощной зелени относятся шесть растений: щавель, салат-латук, листовая свекла мангольд, лебеда, шпинат, портулак. Из них готовят супы, постные фарши и лечебные настои. По нашему мнению, их следует употреблять особенно для настоев. Пряных растений десять, не считая лавра, который, будучи деревом, не может быть отнесен к травам: петрушка, эстрагон, кервель, лук-резанец, лук-татарка, чабер, фенхель, тимьян, базилик и пижма Трав для салата двенадцать: кресс-салат, жеруха, кервель, эстрагон, кровохлебка, камнеломка, воронья лапка, базилик маленький, портулак, кордиола, молодая мята и лук-резанец. Как видно, четыре из этих растений одновременно относятся и к огородной зелени, и к пряным травам, и к салатной зелени, то есть, подобно нашим государственным деятелям, они совмещают различные функции — не для того, чтобы есть, а чтобы быть съеденными. Мы видели, что «Кулинарный словарь» рекомендует класть кусочек черствого хлеба, натертого чесноком, на дно салатницы, в которой готовится цикорный салат. Этот кусочек называют «каплуном». Откуда взялось такое название? Самые углубленные этимологические исследования не дали мне ответа на этот вопрос, так что мне пришлось самостоятельно найти ответ на этот вопрос. Вот что из этого получилось. Слово «каплун», относящееся к птице, происходит из области Ко в Нормандии или из провинции Мен, а «каплун» в смысле «кусочек хлеба, натертый чесноком», — родом из Гаскони. Поскольку гасконец был обычно беден и тщеславен, кому-то из них, может д’Артаньяну, пришло в голову назвать каплуном корку хлеба, натертую чесноком. Так он приобрел право всем, кто задавал ему вопрос: «Хорошо ли вы пообедали?» — отвечать, гордо выпячивая грудь: «Великолепно, на обед были каплун и салат».
А это, если понимать буквально, для гасконца неплохой обед. Что до меня, то я очень люблю провансальскую кухню, которой посвятил специальное исследование, особенно касающееся блюд домашнего изготовления. И, несмотря на существовавший в Риме запрет входить в храм Сибела, поев чеснока, несмотря на ненависть, питаемую к чесноку нашим органом обоняния, несмотря на указ короля Альфонса Кастильского, запрещающий есть чеснок рыцарям основанного им в 1368 г. ордена, мы с медицинской точки зрения разделяем мнение Распая, а с кулинарной — поддерживаем Дюрана, которые единогласно рекомендуют использование чеснока в качестве вкусного и здорового продукта. Всем вам известны салаты, начиная с белого цикория и кончая латуком-роменом, не правда ли? Но только в достаточно экстраординарном случае, если вы любите вид цикория, называемый «борода капуцина», я дал бы вам совет, который поначалу может показаться вам немного странным, а впоследствии — просто замечательным. Я рекомендую вам смешивать с этим цикорным салатом несколько цветков фиалки и 2–3 щепотки того флорентийского ириса, который кладут в мешочки для ароматиз<
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 117; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 13.58.214.43 (0.014 с.) |