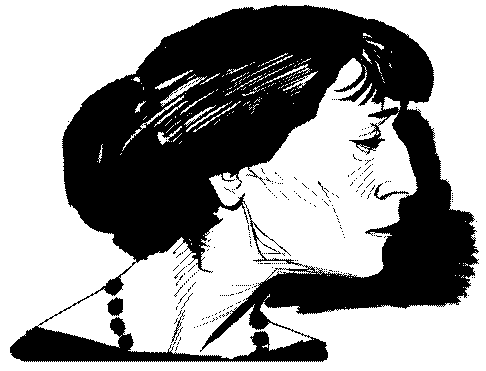Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Утро акмеизма: камень и культураСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
«Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма», – написал Мандельштам в программной статье «Утро акмеизма» (1912). В одной фразе повторяются три синонимичных, важных для акмеистской поэтики понятия: вещь, существование, бытие. Светлый циферблат часов вместо луны был для поэта, как уже говорилось в главе об акмеизме, переходом от символистской метафорической отвлеченности к новой конкретности, вещизму, адамизму. Повествователь первого сборника «Камень» (1913) – «старинный пешеход», «прохожий человек», перед которым открывается наполненный привлекательными и прелестными подробностями мир. «Медлительнее снежный улей, / Прозрачнее окна хрусталь, / И бирюзовая вуаль / Небрежно брошена на стуле». – «„Мороженно!“ Солнце. Воздушный бисквит. / Прозрачный стакан с ледяною водою» – «Поедем в Царское Село! / Свободны, ветрены и пьяны, / Там улыбаются уланы, / Вскочив на крепкое седло… / Поедем в Царское Село!» – «Воздух пасмурный влажен и гулок; / Хорошо и нестрашно в лесу. / Легкий крест одиноких прогулок / Я покорно опять понесу». В этом освоении, пристальном разглядывании мира Мандельштама интересуют не только привычные вещи, но и совершенно новые приметы времени. Он одним из первых начинает живописать технические новинки и предметы цивилизации. Он пишет стихи о приморском казино, кинематографе, теннисе, футболе, путешествующей по Европе американке. Заглавие книги Мандельштама – предметно, но в то же время и символично. Камень – основа здания. Архитектура придает миру наглядность, вещественность и становится памятью об ушедшей эпохе, памятником. Многие стихотворения Мандельштама – архитектурные пейзажи, описания дворцов, соборов, площадей. Он не только упоминает «желтизну правительственных зданий», Адмиралтейство, площадь Сената и торговую набережную Невы в «Петербургских строфах», но посвящает особые стихи Адмиралтейству, Дворцовой площади, Казанскому собору, собору Святой Софии в Стамбуле и собору Парижской Богоматери. В последнем стихотворении задача поэта прямо соотносится с работой зодчего.
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, Я изучал твои чудовищные ребра, – Тем чаще думал я: из тяжести недоброй И я когда‑нибудь прекрасное создам…
(«Notre Dame», 1912) Мандельштамовская особенность воссоздания мира заключалась в том, что его зрение не только улавливало самые современные детали бытия («Кинематограф. Три скамейки»), но проникало в близкое и далекое прошлое, делало своим, домашним, близким и Англию XIX века («Когда, пронзительнее свиста, / Я слышу английский язык / Я вижу Оливера Твиста / Над кипами конторских книг»), и классицистскую Францию («Театр Расина. Мощная завеса… Спадают с плеч классические шали…»), и шотландское средневековье («И перекличка ворона и арфы / Мне чудился в зловещей тишине; / И ветром развеваемые шарфы / Дружинников мелькают при луне!»), и императорскую римскую историю («Я в Риме родился и он ко мне вернулся») и времена Гомера.
Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Элладою когда‑то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи, – На головах царей божественная пена, – Куда плывете вы? Когда бы не Елена, Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер – все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, И море черное, витийствуя, шумит И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
(«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 1915) Исходная ситуация, точка лирического отсчета в этом стихотворении помещена в современности: во время бессонницы лирический субъект читает «Илиаду». Но перечень вождей, которые отправились на завоевание Трои, давно ставший образцом школьной скуки, является толчком для воображения поэта. Гомеровские корабли вдруг превращаются в метафорический журавлиный клин и даже журавлиный поезд (в этом слове соединяются и старинное значение «обоз, караван», и, возможно, современное – «сцепление вагонов на железной дороге»). И вот уже поэт прямо обращается к спутникам Одиссея, даже различает на их головах «божественную пену», понимает причины их похода («И море, и Гомер все движется любовью»), ощущает шум, голос (витийство) моря у своего изголовья. Воображение – мандельштамовская машина времени. Скучная, далекая история вдруг оживает, становится, наряду с кинематографом и футболом, явлением современной культуры. Поэт предоставляет ее в распоряжение внимательного читателя, предлагая увидеть баснословные времена на расстоянии вытянутой руки. Продолжает этот диалог с гомеровской эпохой стихотворение, написанное в Крыму между двумя революциями:
Золотистого меда струя из бутылки текла Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела: – Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни Сторожа и собаки, – идешь, никого не заметишь. Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни. Далеко в шалаше голоса – не поймешь, не ответишь.
После чаю мы вышли в огромный коричневый сад, Как ресницы, на окнах опущены темные шторы. Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград, Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.
Я сказал: виноград, как старинная битва, живет, Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке; В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот Золотых десятин благородные, ржавые грядки.
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина, Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала. Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, – Не Елена – другая, – как долго она вышивала?
Золотое руно, где же ты, золотое руно? Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
(«Золотистого меда струя из бутылки текла…», 1917) Множество конкретных деталей передают медленное, тягучее ощущение времени. Этому ощущению помогает и выбранный размер: длинный пятистопный анапест, напоминающий о русской аналогии античного гекзаметра (это был шестистопный дактиль со стяжениями). Композиционная особенность стихотворения Мандельштама и здесь заключается в том, что пейзаж современной Тавриды органически сливается со временем гомеровского эпоса. Многие детали крымского пейзажа лишены отчетливых хронологических примет: возделывали и убирали виноград, разливали мед, пили чай и смотрели на горы на этой земле тысячелетиями. Но в эту картину включены отсылки к далекому прошлому: виноград напоминает герою‑рассказчику старинную битву; виноградники и винные погреба – службы бога виноделия Бахуса; не Елена, другая – это жена Одиссея Пенелопа, на занятие которой намекает прялка (правда, гомеровская героиня не пряла, а ткала). В последней строфе эти разновременные, но однородные детали сливаются в единую картину, где, словно в ответ на вздох повествователя («Где же ты, золотое руно?»), появляется возвратившийся домой главный герой гомеровского эпоса. «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи; / Старца великого тень чую смущенной душой», – написал Пушкин, прочитав русского Гомера, переведенного Н. И. Гнедичем («На перевод Илиады», 1830). Мандельштам позволяет почуять эту великую тень не хуже Гнедича. Существует забавная легенда о том, как Мандельштам сдавал университетский экзамен по античной литературе. На просьбу рассказать об Эсхиле он, подумав, сказал, что драматург был религиозен, потом, после долгой паузы, добавил, что Эсхил написал «Орестею», и после этого гордо покинул аудиторию. Подлинные отношения поэта с античной культурой описал литературовед К. В. Мочульский, который в юности как раз помогал Мандельштаму готовиться к экзамену. «Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой грамматики. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие: наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. <…> Он превращал грамматику в поэзию и утверждал, что Гомер – чем непонятнее, тем прекраснее. <…> Мандельштам не выучил греческого языка, но он отгадал его. Впоследствии он написал гениальные стихи о золотом руне и странствиях Одиссея:
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
В этих двух строках больше «эллинства», чем во всей «античной» поэзии многоученого Вячеслава Иванова» («О. Э. Мандельштам», 1945). Мандельштам отгадал не только Гомера, но и многие другие времена. Историю он воспринимал как личное, доступное изображению и осмыслению пространство культуры. «Все перепуталось, и сладко повторять: / Россия, Лета, Лорелея» («Декабрист», 1917). Если акмеизм Гумилева связан с экзотической вещью, акмеизм Ахматовой с вещью психологизированной, то основой акмеистской поэтики Мандельштама становится культурно‑историческая вещь. В умении видеть и предметно изображать самые разные исторические эпохи ему не было равных в поэзии серебряного века.
И, если подлинно поется И полной грудью, наконец, Все исчезает – остается Пространство, звезды и певец!
(«Отравлен хлеб, и воздух выпит…», 1913).
ПРЯМАЯ РЕЧЬ: ЗЕМЛЯ И ВОЗДУХ
Общие принципы поэтики акмеизма – предметность, объективность взгляда на мир, отсутствие лирического героя, соизмеримость поэта с современниками – Мандельштам сохраняет и в поздних стихах. В этом смысле он – поэт без истории. Но предметный мир и черты лирического субъекта в его стихах все‑таки изменяются: слишком менялась окружающая реальность, чтобы поэт мог спокойно погружаться в разные культурно‑исторические эпохи. В стихах, написанных в воронежской ссылке, наряду со стихиями моря и неба, Мандельштам открывает русский простор, которым пытается вылечиться от выпавших на его долю испытаний.
И не ограблен я, и не надломлен, Но только что всего переогромлен… Как «Слово о полку», струна моя туга, И в голосе моем после удушья Звучит земля – последнее оружье, Сухая влажность черноземных га!
(«Стансы», май‑июль 1935) Земля, чернозем (одно из стихотворений так и называется «Чернозем», апрель 1935) приходит на смену камню. Вещь как знак культурной эпохи не исчезает из стихов Мандельштама, но наряду с этим, как когда‑то у Фета или у А. А. Ахматовой, вещь становится симптомом какого‑то психологического состояния, мгновенного впечатления.
Вехи дальние обоза Сквозь стекло особняка, От тепла и от мороза Близкой кажется река. И какой там лес – еловый? Не еловый, а лиловый, – И какая там береза, Не скажу наверняка – Лишь чернил воздушных проза Неразборчива, легка…
(«Вехи дальние обоза…», 26 декабря 1936) С четко зафиксированной точки зрения поэт вглядывается в мир, рассматривает его и, в конце концов, видит невидимое: прозрачный воздух, связанный с ощущением легкости, творчества, вдохновения. «Живем на высоком берегу реки Цны. Она широка или кажется широкой как Волга. Переходит в чернильно‑синие леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляет глубокое наслаждение», – описывает поэт пейзаж, из которого вырастают это и несколько других стихотворений (Н. Я. Мандельштам «Воспоминания»). В прозаическом описании зафиксирована та же точка зрения (дом на высоком берегу реки и лес за ней), назван главный цвет (чернильно‑синий), но прямая оценка (гармония, высокое наслаждение) спрятана, растворена в самом изображении. Мандельштам, в согласии с призывом Пастернака и даже раньше его, временами впадает в «неслыханную простоту». Такую простоту – высокие ценности обыденной жизни – вдруг открывают поэты разных эпох. Одни читатели называют эти открытия «простотой хуже воровства», другие – жизненной и поэтической мудростью.
Мы с тобой на кухне посидим, Сладко пахнет белый керосин;
Острый нож да хлеба каравай… Хочешь, примус туго накачай,
А не то веревок собери Завязать корзину до зари,
Чтобы нам уехать на вокзал, Где бы нас никто не отыскал.
(«Мы с тобой на кухне посидим…», январь 1931) Кажется, такие простые стихи и писать просто: здесь нет ни одной метафоры, использован лишь один эпитет (белый керосин). Но в них есть, существует самое главное для настоящей лирики свойство: правда психологического состояния, ощущения человека, казалось бы, лишенного всего, но, тем не менее, добывающего поэзию из самых обыденных вещей (хлеб, керосин, корзина, веревка), имеющего друга, собеседника, любимую («мы с тобой» так не объяснено конкретнее), сохраняющего веру и надежду в скитаниях по враждебному миру. Детали этого стихотворения показывают, что Мандельштам воспринимает исторически не только далекие времена, но и свою собственную эпоху. Причем он видит ее как в крупных, огромных чертах и размерах, так и мелко, четко, как полагается настоящему акмеисту, влюбленному в существование вещей (керосином заправляют примус, корзину в поездке используют вместо чемодана, хлеб продают большими караваями). Прямая речь, прямое слово («сладко пахнет белый керосин») становятся для поэзии Мандельштама так же необходимы, как и сложные культурно‑исторические образы («на головах царей божественная пена»).
Пора вам знать: я тоже современник, Я человек эпохи Москвошвея, Смотрите, как на мне топорщится пиджак, Как я ступать и говорить умею! Попробуйте меня от века оторвать, Ручаюсь вам – себе свернете шею!
(«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…», май – 4 июня 1931) Установкой на прямую речь порождены гражданские, политические стихи Мандельштама, о которых уже шла речь. Однако Мандельштам хочет быть современником, человеком эпохи Москвошвея, не предавая ни Гомера с Расином, ни разночинцев в рассохлых сапогах. В этих же стихах лето называется буддийским, тот же мотив продолжает загадочный «сморщенный зверек в тибетском храме», в последней строфе упоминаются Рембрандт, Рафаэль и Моцарт. После прозрачного «утра акмеизма» поэзия Мандельштама одновременно становится и более простой, и более сложной. В одних случаях подобная сложность связана с тем, что предмет описания выведен за пределы стихотворения, но все встает на свои места, если мы узнаем или опознаем его.
Что поют часы‑кузнечик, Лихорадка шелестит И шуршит сухая печка, – Это красный шелк горит.
(«Что поют часы‑кузнечик…», 1918) Смысл этого стихотворения пояснила А. А. Ахматова: «…это мы вместе топили печку; у меня жар – я мерю температуру». Подобные стихи похожи на загадочные метафорические картинки Маковского: узнав, что описано, мы легко располагаем вокруг предмета все образы. Но у позднего Мандельштама есть и другие стихи. Их загадочная образность напоминает, скорее, о поэзии символизма. Таковы «Стихи о неизвестном солдате». В этом тексте находят множество литературных цитат, аналогий, отсылок к разнообразным произведениям мировой литературы (это свойство называют интертекстуальностью или мандельштамовскими подтекстами), но все равно многие его строки и образы остаются загадочными, допускают только предположительное прочтение.
Этот воздух пусть будет свидетелем, Дальнобойное сердце его, И в землянках всеядный и деятельный Океан без окна – вещество…
До чего эти звезды изветливы! Все им нужно глядеть – для чего? В осужденье судьи и свидетеля, В океан без окна, вещество.
От колючих звезд‑булавок в «Камне» и «Tristia» и прозрачного воздуха воронежских полей («Воронежские тетради») до угрожающих изветливых звезд и загадочного воздуха‑свидетеля с дальнобойным сердцем в «Стихах о неизвестном солдате» – таков образный диапазон поэзии Мандельштама. Однако неизменными остаются глубокий смысл подобных стихов и их трагическая сила. «Я – смысловик», – говорил о себе Мандельштам. На вопрос: «Что такое акмеизм?» – он однажды ответил: «Тоска по мировой культуре». А в письме литературоведу Ю. Н. Тынянову предсказал: «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются с ней и растворятся в ней, кое‑что изменив в ее строении и составе» (21 января 1937 г.). Так и случилось: стихи Мандельштама слились, растворились, изменили состав русской поэзии, стали частью мировой культуры.
Анна Андреевна АХМАТОВА (1889–1966)
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 573; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.214 (0.01 с.) |