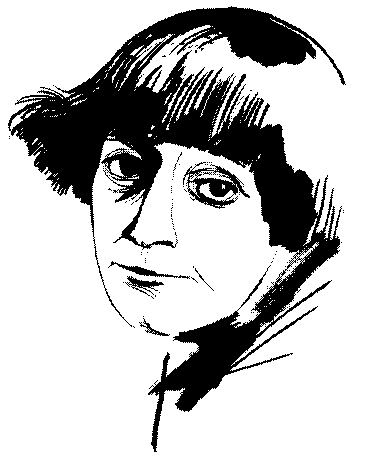Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Роман о мастере: любовь и творчество
Есть писатели, которые четко отделяют личную жизнь от литературного творчества. «У меня болезнь: автобиографофобия», – ответил Чехов на просьбу прислать хотя бы короткую автобиографию для журнала. «Людям давай людей, а не себя», – поучал он еще в молодости старшего брата. Чехов практически не вел дневников, его записные книжки наполнены набросками сюжетов, а не личными признаниями. В чеховских произведениях с большим трудом обнаруживаются автобиографические мотивы, Чехов растворяется, исчезает, умирает в своих героях. Булгаков (и в этом он похож на Толстого) принадлежит к писателям противоположного типа. Навсегда отказавшись в середине двадцатых годов от ведения дневника (после ареста рукописей ему было нестерпимо, что его личные записи читают чужие глаза), он фактически сделал таким дневником все художественное творчество. Автобиографические эпизоды и мотивы содержатся в «Записках юного врача», «Белой гвардии» и «Днях Турбиных», московских очерках, «Записках покойника» («Театральном романе»). Причем собственную жизнь после «Записок юного врача» Булгаков рассматривает прежде всего как жизнь художника, профессионального литератора. Писатель – один из главных героев булгаковский прозы. Художник и власть – один из ключевых конфликтов его художественного мира. Обращаясь к другим историческим эпохам, Булгаков, естественно, ищет там своих собратьев‑двойников, близких ему по духу и отношению к миру. Мольер в биографической книге о нем и пьесе «Кабала святош» (1929), Пушкин в пьесе «Александр Пушкин» временами кажутся булгаковскими соратниками, почти двойниками. Естественно, в итоговом булгаковском романе с самого начала возникли тема творчества и прием романа в романе: историю Иешуа рассказывает современный писатель, и результаты его труда представляются читателю. Однако в процессе работы эта булгаковская личная тема соединилась с еще одной вечной темой. В 1929 году Булгаков, как мы помним, познакомился с Е. С. Шиловской. Через какое‑то время он возобновил работу над романом, и в книге появилась новая сюжетная линия, связанная с мастером и историей его любви. Постепенно «Черный маг» (или «Князь тьмы») стал «Мастером и Маргаритой». (Так «Анна Каренина» в процессе работы Толстого фактически превратилась в «Константина Левина», хотя в отличие от Булгакова Толстой не изменил первоначальное заглавие.)
«Мастер и Маргарита» – заглавие типологическое. В истории литературы уже были античный роман Лонга «Дафнис и Хлоя», средневековая легенда «Тристан и Изольда», шекспировская трагедия «Ромео и Джульетта» – истории о любви, верности и смерти, сочетание любовной идиллии и социальной трагедии. Однако булгаковский герой – писатель. Героев соединяет не просто внезапное и вечное чувство, но – книга, дело мастера, которое Маргарита тоже считает своим («Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу»). Роман мастера полемически противопоставлен обычной тематике советской литературы: «О чем роман? – Роман о Понтии Пилате… – О чем, о чем? О ком? – заговорил Воланд, перестав смеяться. – Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы?» Мастер, однако, не может найти другой темы, ему, как романтическому поэту, диктует тему вдохновение, а не социальный заказ. В главах, посвященных любви героев, возникает новый повествователь: не эпический живописец или сатирический наблюдатель, а патетический лирик, прибегающий к высокому стилю и романтическим формулам: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!» (гл. 19) Но мастера, конечно, нельзя отождествлять с автором «большого» романа. В романе‑мифе (в отличие, скажем, от «театрального романа») Булгаков создает обобщенный образ художника, его художественной и человеческой драмы, вспоминая о своих литературных учителях и двойниках. Имя «мастер» появляется в романе лишь в процессе работы, в середине тридцатых годов. В планах герой назывался Фаустом, в ранних редакциях – поэтом. Первоначально Булгаков называет мастером господина де Мольера. «Но ты, мой бедный и окровавленный мастер!» – обращается повествователь к герою в «Прологе». И здесь же рисуется стилизованный портрет самого повествователя, в сущности тоже «романтического мастера»: «И вот: на мне кафтан с громадными карманами, а в руке моей не стальное, а гусиное перо. Передо мною горят восковые свечи, и мозг мой воспален».
Портрет героя напоминает уже не о Мольере, а о Гоголе (острый нос, свешивающийся на лоб клок волос). Гоголевским оказывается и отчаянный жест (сожжение рукописи), повторенный Булгаковым в жизни. Мастер – персонаж «Мастера и Маргариты» – автор единственной книги, утративший после всех испытаний способность творить. Трагический итог его судьбы подводит диалог с Боландом. «После некоторого молчания Воланд обратился к мастеру: – Так, стало быть, в Арбатский подвал? А кто же будет писать? А мечтания, вдохновение? – У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет, – ответил мастер, – ничто меня вокруг не интересует, кроме нее, – он опять положил руку на голову Маргариты, – меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал. – А ваш роман, Пилат? – Он мне ненавистен, этот роман, – ответил мастер, – я слишком много испытал из‑за него. <…> – Но ведь надо же что‑нибудь описывать? – говорил Воланд, – если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Алоизия. Мастер улыбнулся. – Этого Лапшенникова не напечатает, да, кроме того, это и неинтересно» (гл. 24). Это неинтересно автору романа о Пилате, но это (Алоизий и прочие) очень интересно автору романа «Мастер и Маргарита». Так что не Пилат, не мастер с любимой и даже не Иешуа оказываются в центре большого романа, но – Автор, все время находящийся за кадром, однако связывающий, сшивающий разные планы книги, создающий общий план лабиринта, перевоплощающийся то в строгого хроникера‑евангелиста, то в разбитного фельетониста, то в патетического рассказчика, то в проникновенного лирика. По богатству повествовательных интонаций, полету фантазии, предметной изобразительности «Мастеру и Маргарите» трудно найти аналогии в литературе 1920‑1930‑х годов. Но зато роману легко находятся двойники в XIX веке, у любимых Булгаковым Гоголя и Пушкина. Предшественниками булгаковского Автора оказываются лирико‑иронический Автор «Евгения Онегина» и патетический повествователь «Мертвых душ». Третий булгаковский роман оканчивается диссонансом: Маргарита еще способна беззаветно любить, герой уже сломан, неспособен творить. Но любящая героиня еще раз спасает мастера. Это происходит уже в многоступенчатом окончании книги. Трем сюжетным линиям романа соответствуют и три финала.
ФИНАЛ: ПОКОЙ И ПАМЯТЬ
Развязывает узлы, разрешает судьбы героев, ставит финальные точки невидимый, но хорошо слышимый Автор уже не в Москве. Герои отправляются в последний полет, и гаснет на глазах мастера один город, в котором казнили его героя, уходит в землю, растворяется в тумане другой, недавно покинутый, «с монастырскими пряничными башнями» – и возникает каменистая площадка среди гор, прокуратор с верной собакой, не высохшая за две тысячи лет кровавая лужа. Все фабульные узлы развязываются лишь при свете луны, в «разоблачающей обманы» ночи, по ту сторону земной жизни – в вечности. Роман мастера оканчивается словами: «… пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат». Этими же словами Автор закончит свой «большой» роман. Но роман о Пилате завершится по‑иному:
«Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: – Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой! Мастер как будто ждал этого уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам: – Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» (гл. 32) Иешуа (так и не появившийся, в отличие от Воланда, на площадке вечности) прощает Пилата, как Маргарита простила Фриду. И прокуратор бежит по лунной дороге, то ли назад, в «пышно разросшийся за много тысяч этих лун сад», чтобы «до чего‑нибудь договориться» с Иешуа, то ли вперед, в сны Ивана Николаевича Понырева, бывшего поэта Бездомного. Романтическому мастеру Иешуа и Воланд согласно даруют иное: песчаную дорогу с мостиком через ручей, венецианское окно с вьющимся виноградом, музыку Шуберта – вечный дом. Этот образ подготовлен диалогом Левия Матвея и Воланда. «– Он прочитал сочинение мастера, – заговорил Левий Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла? – Мне ничего не трудно сделать, – ответил Воланд, – и тебе это хорошо известно. – Он помолчал и добавил: – А что же вы не берете его к себе в свет? – Он не заслужил света, он заслужил покой, – печальным голосом проговорил Левий» (гл. 29). Афоризм о свете и покое выглядит загадочно: в самом деле, почему мастер не заслужил света? Какие‑то основания для ответа на этот вопрос, кажется, может дать та же вечная книга. «Светом» в Евангелии, во‑первых, называется Бог («Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». – Первое послание Иоанна, гл. 1, ст. 5), во‑вторых – Христос («Доколе Я в мире, Я свет миру». – Евангелие от Иоанна, гл. 9, ст. 5), в‑третьих – его ученики («Вы свет мира. <…> Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного». – Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 14, 16), в‑четвертых – все христиане («Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы». – Первое послание к Фессалоникийцам апостола Павла, гл. 5, ст. 5). Все эти смыслы так или иначе могут быть соотнесены с булгаковским «светом», в котором находятся Иешуа и его ученик. Близкое же романному значение «покоя» встречается в канонических книгах, кажется, лишь однажды. «…И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его. <…> И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откровение Иоанна Богослова, гл. 14, ст. 11, 13).
Цитата из Откровения Иоанна Богослова стала эпиграфом «Белой гвардии», ссылки и реминисценции Апокалипсиса не раз появляются и в самом тексте. «Логия» Левия Матвея: «Мы увидим чистую реку воды жизни… Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл» – на самом деле восходит не к Матфею, а к тому же Иоанну Богослову: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откровение Иоанна Богослова, гл. 22, ст. 1). Так что весьма вероятно, что мастер получает этот, апокалипсический покой, тоже успокаивается от трудов своих. Подвижник и ученик Левий Матвей получает одно, художник‑подвижник без имени – другое. Это не низший, а другой аспект бытия в хронотопе вечности. Свет и покой – два варианта, две версии рая, который заслуживают праведники. Причем образ «покоя» имеет не только евангельские, но и отчетливые литературные истоки. «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…» Пушкинский стих отзывается в заглавии тридцатой главы романа. Еще ближе к булгаковскому финалу окончание этого стихотворения: «На свете счастья нет, но есть покой и воля. / Давно завидная мечтается мне доля – / Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальнюю трудов и чистых нег». Разница лишь в том, что булгаковский усталый раб предпринимает побег не по своей воле, да его обитель оказывается слишком дальней… Кстати, образ смерти тоже есть у Пушкина: «Предполагаем жить… И глядь – как раз – умрем». В сущности, о подобном покое‑сне, покое‑посмертии написано лермонтовское стихотворение «Выхожу один я на дорогу…». Конкретные черты вечного приюта мастера – сад, вишни (они были уже в черновиках), музыка, свечи, ручей – напоминают два сада над обрывом Настоящего Двадцатого Века: «Вишневый» и «Соловьиный». Прекраснодушные близорукие герои Чехова и требовательный самоотверженный путник Блока уходили из сада по необходимости или собственной воле. Булгаковские мастер и Маргарита и получают его как последнюю награду, причем уже по ту сторону земного бытия. «– Скончался сосед ваш сейчас, – прошептала Прасковья Федоровна… – Я так и знал! Я уверяю вас, Прасковья Федоровна, что сейчас в городе еще скончался один человек. Я даже знаю, кто, – тут Иванушка таинственно улыбнулся, – это женщина» (гл. 30). Они, как Ромео и Джульетта или герои Грина, умирают в один день и даже мгновение. (Так обстоит дело в романе о мастере, в сюжете московской дьяволиады смерть превращается в исчезновение). О той же судьбе, о «прощении и вечном приюте», в сущности, мечтает и повествователь, невидимый Автор, с лирического монолога которого начинается тридцать вторая глава: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна…» Булгаковская фраза не окончена. Обычно ее дополняют так: «…только она одна успокоит его».
Прощение неразрывно связано с прощанием. Вечный приют, вечный дом возможен лишь в вечном покое. С вечной памятью все оказывается тоже не так просто. Сначала большой роман заканчивался в хронотопе вечности, где ставилась последняя точка романа мастера и романа о мастере. Московская дьяволиада просто обрывалась многоточием, таяла в тумане, оставалась за спиной героев: «Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимся над ними аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только туман». В мае 1939 года Булгаков попросил зачеркнуть последний абзац тридцать второй главы (текстологи, «следуя сложившейся традиции», оставляют и его) и продиктовал эпилог. Вернулся оттуда, из вечности, – сюда, на землю. Поставил точку и в третьем, московском романе. Действие в эпилоге переносится в неопределенное будущее: «прошло несколько лет». Здесь снова появляется рассказчик – собиратель слухов: «Слухи эти даже тошно повторять». Множатся фельетонно‑гротескные детали: по всей стране (какой?) граждане ловят черных котов, персонажи меняются местами, Степа Лиходеев заведует в Ростове гастрономическим магазином, Римский переходит в театр детских кукол, а на месте Римского оказывается доносчик Могарыч. Но вдруг это привычное для московского романа колесо обозрения останавливается, интонация повествователя меняется, внимание сосредоточивается на одном герое и связанном с ним мотиве памяти. «Да, прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти. Но не у всех, не у всех». Память мучит каждый год в дни весеннего праздничного полнолуния бывшего поэта, ныне профессора Института истории и философии, Ивана Николаевича Понырева. (Правда, и здесь Булгаков дает герою фельетонного двойника: память мучит и бывшего борова – Николая Ивановича.) Историк сидит на той же скамейке на Патриарших прудах (так закольцовывается не только роман о Пилате, но и московский роман). Его сознание, его сны – последний земной приют, где живут «давно позабытый всеми Берлиоз», Иешуа и Пилат, мастер и его любимая. Мотив «укола» – реального и символического, укола в сердце и укола памяти – последовательно проводится Булгаковым через все три романа. Тупую иглу, засевшую в сердце (предчувствие смерти), ощущает в самом начале, перед появлением Коровьева, Берлиоз. Тупая иголочка беспокойства (ироническое снижение мотива) покалывает Босого перед получением взятки. Острая боль, как от иглы, пронзает Маргариту во время великого бала. Тихим уколом копья в сердце завершается земная жизнь Иешуа. Мощный ножевой удар кончает с Иудой. «Беспокойная, исколотая иглами память» была дана в последних строках романа мастеру. В эпилоге она передается Поныреву. Но она, эта память, «потухает», «гаснет», «затихает». Она ни в коем случае не вечна, если место мастера, «вакансия поэта» остается пустой. Когда Москва лишается человека из сто восемнадцатого номера (умирает он или исчезает), сны и галлюцинации так и не удается воплотить в слово. «„Так, стало быть, этим и кончилось?“ – „Этим и кончилось, мой ученик… Конечно, этим. Все кончилось и все кончается… И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо”». Чем кончилось? И как надо? Мир обязательно нуждается в Мастере, хотя сам не подозревает об этом. Описать его, дать ему голос может только другой мастер. Кажется, лишь в такое бессмертие – душа в заветной лире мой прах переживет – и верит автор «Мастера и Маргариты». «История народа принадлежит Поэту», – четко, безапелляционно сформулировал Пушкин. Булгаков мог бы повторить эти слова.
Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА (1892–1941)
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.139.233.43 (0.038 с.) |