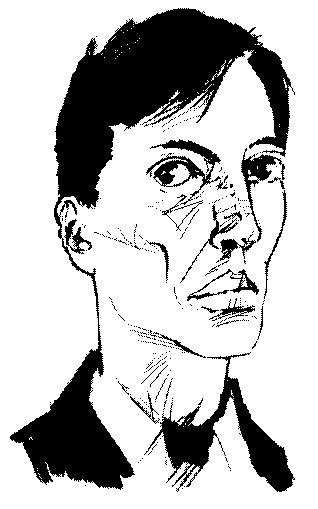Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Путь: поэтика быта и поэтика словаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Но к подобной манере и такой картине мира Цветаева пришла не сразу. «Не вправе судить поэта тот, кто не читал каждой его строки. Творчество – преемственность и постепенность. <…> Хронология – ключ к пониманию», – афористично сформулировала она в одной из статей («Поэт о критике», 1926). Ее ранние, юношеские стихи более спокойны, гармоничны, связаны не с говорным, а с напевным стихом. В 1913 году, издавая лучшие стихи из двух первых книг под одной обложкой, Цветаева сопровождает их программным предисловием, своеобразным стихотворением в прозе, которое определяет ее творческие задачи. «Все это было. Мои стихи – дневник. Моя поэзия – поэзия собственных имен. Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живым: Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох! <…> Не презирайте „внешнего“! Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана – не менее слов, на нем сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего не важного! Говорите о своей комнате: высока она или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковер, и какие на нем цветы?.. Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце – все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души» (Предисловие к сборнику «Из двух книг», 1913). Призыв запечатлевать разнообразные подробности бытия напоминает одновременно появившиеся манифесты акмеистов. Но психологическая выделенность вещей в поэзии Ахматовой или культурный контекст, в котором появляются вещи у Мандельштама, размываются потоком цветаевской страстности. На первом плане в цветаевских стихах оказывается все‑таки не мир, а лирическая героиня. Дневник (личное повествование) для поэзии Цветаевой важнее, чем летопись (рассказ о событиях общезначимых). Описывая счастливые, милые подробности девичьей жизни, Цветаева одновременно создает ощущение драматизма бытия, связанного с вечными темами – одиночества, любви, времени, смерти.
Звенят‑поют, забвению мешая, В моей душе слова: «пятнадцать лет». О, для чего я выросла большая? Спасенья нет!
(«Пятнадцать лет»)
Я сегодня всю ночь не усну От волшебного майского гула! Я тихонько чулки натянула И скользнула к окну.
Я – мятежница с вихрем в крови, Признаю только холод и страсть я. Я читала Бурже: нету счастья Вне любви!
(«Я сегодня всю ночь не усну…») В лирическом дневнике Цветаева не просто фиксирует жизнь, но размышляет о ней. Ее стихи, как правило, стремятся к четкой формулировке, афоризму, венчающему строфу или все произведение. Через много лет Цветаева вспоминала разговор с близким к акмеистам поэтом М. А. Кузминым. «Ведь все ради этой строки написано?» – спрашивает она, процитировав одно из стихотворений Кузмина. «Как всякие стихи – ради последней строки». – «Которая приходит первой». – «О, вы и это знаете!» («Нездешний вечер», 1936).
День был невинен, и ветер был свеж. Темные звезды погасли. – Бабушка! Этот жестокий мятеж В сердце моем – не от Вас ли?..
(«Бабушке», 4 сентября 1914)
О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты Закон звезды и формула цветка.
(«Стихи растут, как звезды и как розы…», 14 августа 1918)
Предстало нам – всей площади широкой! – Святое сердце Александра Блока
(«Стихи к Блоку», 9, 9 мая 1920) Финальных афоризмов много в ранних стихах Цветаевой. В послереволюционное время, во время работы над «Лебединым станом», в ее поэтике происходят важные изменения. «День лирического дневника сжимается до момента, впечатление – до образа, мысль – до символа, и этот центральный образ начинает развертываться не динамически, а статически, не развиваться, а уточняться» (М. Л. Гаспаров. «Марина Цветаева: от поэтики быта к поэтике слова», 1982). Подобные изменения, продолжает анализ М. Л. Гаспаров, резко меняют и саму структуру, построение стиха: «Ранние стихи Цветаевой, закругленные концовками, – писались с конца, начало подгонялось под конец… <…> Зрелые стихи Цветаевой не имеют ни концовок, ни даже концов, они начинаются с начала: заглавие дает центральный, мучащий поэта образ (например, „Наклон“), первая строка вводит в него, а затем начинается нанизывание уточнений и обрывается в бесконечность». Действительно, в уже цитированном стихотворении «Маяковскому», сравнив в первой строфе поэта с архангелом‑тяжелоступом, Цветаева продолжает нанизывать сходные метафорические определения: «он возчик и он же конь, он прихоть и он же право», «певец площадных чудес», «гордец чумазый». Завершается этот метафорический ряд оксюморонным соединением прежних определений: «Здорово, булыжный гром! / Зевнул, козырнул – и снова / Оглоблей гребет – крылом / Архангела ломового». Поэт оказывается одновременно архангелом и ломовой лошадью, его крыло – одновременно веслом и оглоблей. Цветаева поэтически весело и радостно играет с миром, видя в нем все новые и новые метафорические подобия поэту. Причем эти метафоры не случайны, а точны, они передают суть поэзии Маяковского: городскую тематику, тяжеловесность и живописность, соединение земного и небесного. В первом стихотворении цикла «Стихи к Блоку» (всего в него входит около двадцати текстов) метафорический ряд меняется.
Имя твое – птица в руке, Имя твое – льдинка на языке, Одно единственное движенье губ, Имя твое – пять букв. Мячик, пойманный на лету, Серебряный бубенец во рту,
Камень, кинутый в тихий пруд, Всхлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт Громкое имя твое гремит. И назовет его нам в висок Звонко щелкающий курок.
Имя твое – ах, нельзя! – Имя твое – поцелуй в глаза, В нежную стужу недвижных век, Имя твое – поцелуй в снег. Ключевой, ледяной, голубой глоток… С именем твоим – сон глубок.
(«Стихи к Блоку», 1, 15 апреля 1916) Блоковские образы холода (льдинка, снег, ледяной глоток, нежная стужа), бешеной скачки (серебряный бубенец, легкое щелканье ночных копыт), любовного свидания (поцелуй в глаза, поцелуй в снег) растворяются в тексте Цветаевой, создавая в совокупности – уже совсем иной, чем в стихах Маяковскому, – образ поэтического мира. В этюде из двух стихотворений «Молодость» (18–20 ноября 1921) сохраняется принцип «нанизывания уточнений», но сами уточнения опять приобретают иной эмоциональный смысл в соответствии с заявленной темой прощания с молодостью. Молодость здесь «сапожок непарный», «ноша и обуза», «морока», «лоскуток кумашный» (кумачовый, красный), «голубка смуглая», «шалая», «золотце мое». В этом стихотворении перебор определений не обрывается и не уходит в бесконечность, а увенчивается характерным для ранней Цветаевой афоризмом‑парадоксом:
Неспроста руки твоей касаюсь, Как с любовником с тобой прощаюсь. Вырванная из грудных глубин – Молодость моя! – Иди к другим!
Однако в других стихотворениях «уточнение» имеет иной характер: Цветаева ищет подобия центральному понятию, теме уже не в мире, а в языке. Поэтика быта превращается в поэтику слова. Посмотрим, как развивается поэтическая мысль в стихотворении «Рас – стояние: версты, мили…» (24 марта 1925). Уже в первом стихе заявлен иной принцип варьирования. Слово‑тема разделено, разрублено, для того чтобы пристальнее всмотреться в него, увидеть в нем новые смыслы:
Рас – стояние: версты, мили… Нас рас – ставили, рас – садили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли.
И дальше Цветаева вспоминает все новые начинающиеся с той же приставки глаголы, всякий раз обнаруживая в них близкий волнующей ее теме смысл: «нас расклеили, распаяли», «не рассорили – рассорили, расслоили», «расселили», «не расстроили – растеряли», «рассовали», «разбили». Мотив расставания, невозможности общения близких людей последовательно проводится через все стихотворение. Переклички, звуковые метафоры превращают разные слова в своеобразный синонимический ряд: расставили – рассадили – расклеили – распаяли – рассорили – расслоили – расселили – растеряли – разбили. Подобными звуковыми метафорами Цветаева завершает уже цитированные «Стихи к сыну»: «В наш‑час – страну! в сейчас – страну! / В на‑Марс – страну! в без‑нас – страну!» Ранние стихи Цветаевой своей предметностью были похожи на акмеистские. Словесная, филологическая игра в поздних стихотворениях напоминает футуристов. Однако поэт не упивается заумью (как Крученых), а превращает в смысл даже фонетику и грамматику (как Хлебников и Маяковский). Но, любившая Пушкина больше всех других поэтов, Цветаева и в юности и позднее знала прелесть простого слова, прямо и точно выраженного чувства (простые слова, «автологическая лирика» – самое сложное, высший пилотаж в поэзии: здесь глубина, естественность эмоции не заслоняется тропами и фигурами).
Вот опять окно, Где опять не спят. Может – пьют вино, Может – так сидят. Или просто – рук Не разнимут двое. В каждом доме, друг, Есть окно такое.
(«Бессонница», 10, 23 декабря 1916)
Рябину Рубили Зорькою. Рябина – Судьбина Горькая. Рябина – Седыми Спусками… Рябина! Судьбина Русская.
(«Рябину…», 1934) В этом коротком стихотворении (всего двенадцать слов, каждое из них выделено в стих) едва ли не каждое слово перекликается с другими. Бытовая картинка (рубят куст рябины) становится для поэта символом ее собственной судьбы (рябина, как мы уже говорили, была «личным» деревом поэта), человеческой «судьбины горькой» и всей «судьбины русской». Меняясь, Цветаева сохраняла основы романтического мировоззрения, его противопоставление искусству и жизни. Искусство было для поэта и оправданием жизни, и защитой от нее: «Я не люблю жизни как таковой, – признавалась она чешской подруге, – для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес – только преображенная, т. е. в искусстве. Если бы меня взяли за океан – в рай – и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая» (А. А. Тесковой, 25 декабря 1925 г.). Цветаева начинала с поэтизации быта. Когда же быт оказался таким, что его стало невозможно поэтизировать, она отказалась от жизни.
Пора снимать янтарь, Пора менять словарь, Пора гасить фонарь Наддверный…
(«Пора снимать янтарь…», февраль 1941) Четверостишие‑набросок – одно из последних, написанных М. И. Цветаевой в любимой и неприветливой Москве. Дальше были война, эвакуация, Елабуга, ощущение безвыходности и «возвращение билета» Творцу.
Борис Леонидович ПАСТЕРНАК (1890–1960)
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 406; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.119 (0.008 с.) |