
Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Реализация метафоры: голова и сердцеСодержание книги Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Трактовка оппозиции «голова-сердце» в дневнике Чернышевского иллюстрирует динамику процесса освоения и преобразования культурного кода. В то время эта оппозиция уже существовала как культурное клише, оторвавшееся от своего первоначального литературного и метафизического контекста и ставшее обычной языковой идиомой. Проследим, однако, ее историю. В своих истоках противопоставление между разумом и чувством восходит к платоновскому тройственному делению человека (голова, сердце, воля). Руссо (оперируя в рамках дуальной модели) внес элемент этической оценки: в его системе, направленной против Просвещения с его культом разума, чувство — положительная ценность, а разум — источник зла. Для поздних романтиков важен был самый принцип оппозиции; анти-омии человеческого сознания лежали в основе характера демони-еского героя. В период дезинтеграции романтического сознания в сии 40-х Г°Д°В в рассудочном человеке (любовь которого идет от вы). противопоставлявшемся человеку подлинно чувствующе- сия ИД£ЛИ олицетвоРение болезни времени; считалось, что рефлек- восст 0давляет волю и сковывает деятельность (тем самым была ановлена тройственность). В борьбе за торжество реальности
над идеальностью оппозиция «голова-сердце» приводилась в соответствие с оппозицией между любовью духовной и чувственной Следуя за Платоном и Августином, Руссо в своей «Исповеди» установил традицию трактовать чистую любовь и любовь физическую как два разных чувства, которые могут переживаться одновременно и быть направлены на разные объекты. Романтизм культивировал «идеальную», или чистую, платоническую любовь, которая противопоставлялась «низкой» чувственности. Позитивисты произвели переоценку ценностей. «Любовь — это материализм, — писал Фейербах, — бесплотная любовь — химера».51 Под влиянием позитивизма первые русские реалисты 40-х годов переосмыслили традиционную оппозицию, и чувственность стала ассоциироваться с силой и энергией в противоположность безжизненности и апатии любви идеальной. В постромантической мысли самый принцип романтического дуализма, или мышление в терминах оппозиций, рассматривался как зло. Не только отрицательный полюс оппозиции, но и само расчленение сознания считалось изначально ложным, свидетельствующим о слабости характера. Проблема приобретала общественную значимость: последователи Сен-Симона поставили себе целью преобразовать тройственного платоновского человека в новую, целостную личность, в которой рациональный человек может сосуществовать с человеком эмоциональным и деятельным. Проблема дуализма сознания, сфокусированная на вопросе любви, стала одной из главных тем дневниковых записей молодого Чернышевского, когда этот страстный почитатель романтиков, воспитанный на поэзии Шиллера и Жуковского, приобщился к современной полемике о романтической двойственности. Из дневника за 1848 год явствует, что он был буквально одержим идеей цельности человеческой личности. Он приходит к выводу, что истинно великий человек (вроде Лободовского) способен жить в равной степени и головой, и сердцем. Сам он при этом болезненно переживает свойственное ему несоответствие между напряженной жизнью ума и скудостью своего эмоционального опыта, не позволяющей ему осуществить высокое предназначение любви. В почти ежедневных записях событий своей эмоциональной жизни, которую он оценивает с точки зрения наличия-отсутствия ощущений, Чернышевский придерживается деления на эмоции, «идущие от головы» и «идущие от сердца», добросовестно регистрируя, какого рода эмоции он испытал в каждой конкретной ситуации: «День прошел ничего, чувствовал только головою, кроме того, когда был у них [Лободовских], было несколько приятно серД-цу» (1:51). «Я думал, но без сердца, только головою, и о нем и о ней (1:137). «Во время разговора [с Лободовским] сидел как будто в другом сте совершенно бесчувственно сердцем, хотя головою чрезвы- - йно F..-1 Но сердце ничего не чувствовало и не чувствует — стран-— как раньше было перед женитьбою его» (1:100). В соответствии новой шкалой ценностей преобладание головных чувств становит-я поводом для беспокойства и замешательства, а область сердца, эмоций, становится объектом особого внимания и далее тщательно разрабатывается в дневнике. В поисках разрешения мучительной психологической ситуации ( страдание усиливается сознанием несоответствия своей эмоциональной жизни существующему культурному канону), Чернышевский начинает осваивать психологический потенциал позитивистских и материалистических концепций. В своей трактовке темы «голова-сердце» Чернышевский деметафоризирует эти понятия: описывая свою эмоциональную жизнь, он толкует термин «сердце» буквально. Под «сердцем» он часто имеет в виду и метафору чувства, и телесный орган, физиологический агент эмоции. Так, описывая то или иное чувство, Чернышевский подробно описывает функционирование сердца как органа: «Странно, сердце снова при постоянных мыслях о Надежде Егоровне неспокойно, как это бывало в первые дни после их свадьбы; снова есть чувство, странно — что это такое? [...] И мне приятно это биение сердца или, лучше, не биение, а как-то особенным образом оно сжимается или расширяется и что-то в самом деле чувствуешь в нем» (1:80). Чернышевский уравнивает здесь физическое ощущение в области сердца и эмоцию посредством языковых операций: манипулируя двумя значениями, прямым и переносным, слов "чувствовать", "чувство". В начале этого пассажа фигурирует общепринятая метафора эмоции "сердце неспокойно"; она получает немедленную экспликацию: "есть чувство". И далее: есть чувство — что это такое? это физические ощущения в сердце. Если в начале этого рассуждения сердце неспокойно" — это метафора, то в середине слово "сердце" Употребляется в буквальном смысле ("биение сердца"). Реализация метафоры убеждает Чернышевского в реальности чувства — "что-то в самом деле чувствуешь в нем". Подобной же операции Чернышевский подвергает другую фигу-РУ речи — метафору "движение сердца" и ее вариант "шевеление сер- Ца. «Ведь я жду только первого повода, первой возможности и вре- У, и сердце этим стало шевелиться: в самом деле, я чувствую н Или приятное чувство в сердце, в физической части тела, как, и т чувствую это и в наружных частях тела и в половых органах, и в'п ^~71). Описание физических изменений в сердце, как РУгих органах, в «наружных частях тела», т. е. реализация мета-
форы, служит объяснением природы эмоции и подтверждением реальности чувства. Чернышевский пристально вглядывается в физические проявления эмоций других людей. Сравнивая себя с Лободовским, которого он воспринимает как сильно чувствующего человека, он записывает: «Ничего почти нынешний день сердцем не чувствовал и когда говорил о Вас. Петр., только тогда чувствовал несколько, но'не так сильно. А он когда говорил, то дышал даже так тяжело, что было видно, так весь колышется» (1:96). Внимание к области сердца и поиски видимых свидетельств его функционирования были подсказаны современным позитивизмом с его вниманием к чувственным ощущениям и наблюдаемым физическим явлениям. С точки зрения позитивизма и реализма головное чувство — явление, лишенное физической манифестации, — не имеет реального существования и, следовательно, не может считаться подлинным опытом. Тогда как реальность спонтанных чувств сердца, провозглашенная Руссо и сентименталистами, а затем и русскими реалистами 40-х годов, может быть подтверждена наблюдаемыми, ощутимыми физическими явлениями, как в сердце, так и в половых органах. В конечном итоге объяснение психологического явления через данные чувственного опыта осуществляется благодаря языковым манипуляциям: за счет абсолютизации дискурса и за счет реализации метафоры, превращения ее в физическую реальность. Этот процесс можно описать следующим образом: Чернышевский движется в двух направлениях: от дискурса к физическому ощущению, и от физического ощущения к представлению о реальности эмоции, обозначаемой языком. Отправляясь от метафоры эмоции, он обнаруживает реальное чувство, стоящее за ней за счет реализации внутренней формы метафоры. Отправляясь от метафор "сердце" (в противоположность голове) и "движения сердца", за счет абсолютизации их внутренней формы, указывающей на физические ощущения в сердце как органе, Чернышевский как бы достигает желанного, но труднодоступного опыта чувства. * * * Что же первично — физическое ощущение или метафора? С чем мы имеем дело — с сублимацией физиологических явлений или с материализацией культурных символов?52 Очевидно, что для Чернышевского абстрактные построения обладали большей реальностью и вещественностью, чем чувственные явления. В его случае путь пролегал от метафоры к физическому ощущению (внутренней форме метафоры), а затем к эмоции (значению метафоры). В погоне за эмоцией Чернышевский прослеживал этапы процесса мета- изации. Эмоция в буквальном смысле была продуктом культурно кода, в данном случае — риторической фигуры. Так, пропустив Н°мантический штамп через позитивистский понятийный аппарат, ч°г>нышевский трансформировал символический материал культу-i в псИхофизиологическую реальность. ИДЕАЛ Все то время, что Чернышевский был близок с Лободовскими, он задавался вопросом, испытывает ли он к Надежде Егоровне настоящую любовь. Мучимый сомнениями, он старался отыскать внешнее подтверждение подлинности своих чувств, приравнивая субъективное чувство к женщине и объективные качества объекта любви. Так, его неуверенность в собственных чувствах и мечты о Надежде Егоровне нашли выражение в проверке ее красоты и грации. Чтобы удостовериться, что он испытывает к Надежде Егоровне истинное чувство, ему необходимо было убедиться в совершенной красоте его возлюбленной. Он разработал специальную технику получения доказательств ее красоты. Первым шагом было сравнение его избранницы с другими красивыми молодыми женщинами. Он предпринимал специальные экспедиции по общественным местам с целью изучения женщин и женских портретов: «...все сличал хорошеньких с Надеждой Егоровной— все хуже» (1:49); «Воротился домой через Невский, смотрел картины и женщин: ни одной лучше Над. Ег.» (1:111); «Должно сказать, что я постоянно сравниваю всех — и картины, и живых — с Над. Ег.» (1:116). В процессе сравнения Чернышевский пришел к выводу, что его предмет превосходит красотой все другие возможные объекты. Он признавался, что испытывал страх, не окажется ли красота какой-либо другой женщины равной красоте его возлюбенной, и ощутил гордость от того, что такой женщины не существует (1:138). Полное совершенство, безупречная красота являлись важнейшим критерием. Он мучился сомнениями и подозрениями, что те или иные черты лица и части тела его возлюбленной были не вполне совершенны: то «линия между подбородком и шеей», то ее нос, плечи или походка казались ему иногда не столь идеально прекрасны, как им следовало быть. «Я смотрел внимательно, старался отыскать что-нибудь, что бы- ы не так, как следует, в ее лице, и не мог найти ничего; оно мне ло аз,алось весьма, весьма хорошо, обворожительно, и мне показа-н ь (°Днако не могло истребить сомнения у меня), что мои сомне-нее асЧет ее кРасоты, решительной красоты — вздор; что грубого у леблю™1146 ничего Решительно нет, следовательно, однако я еще ко-сь сомнением» (1:76). Чернышевский, однако, был более склонен сомневаться в реальности собственных ощущений, нежели в достоинствах своего предмета: «нос по бокам показался не так, как должен был бы быть. Я думаю, это ошибка с моей стороны» (1:134). Следующий шаг потребовал сопоставления своего объекта с гарантированными, единодушно признанными образцами — известными красавицами, портреты которых выставлялись в модных картинных галереях («какая-нибудь знаменитость или какой-нибудь идеал»; 1:75): «Шел по Невскому смотреть картинки. У Юнкера много новых красавиц; внимательно, долго рассматривал я двух, которые мне показались хороши, долго и беспристрастно сравнивал и нашел, что они хуже Над. Ег., много хуже, потому что в ее лице я не могу найти недостатков, а в этих много нахожу, особенно не выходит почти никогда порядком нос, особенно у этих красавиц, у переносицы, и части, лежащие около носа по бокам, где он подымается, да, это решительно твердо» (1:83). Подобного рода записи часто встречаются в дневнике. Чернышевский разделял распространенное убеждение, будто идеальной, возвышенной красотой наделены аристократки, чье происхождение — надежная гарантия качества. Его тревожило впечатление, что у Лободовской — «простое русское, обыкновенное лицо» (1:63). По мере того как его восхищение Надеждой Егоровной ослабевало и оценка ее красоты как «совершенной» сменилась на «так себе», он стал опасаться, что в один прекрасный день увидит, что лицо у нее не аристократическое (1:63). Неудивительно, что такой день, в конце концов, настал. Когда идеал оказался развенчан, Чернышевский заметил присущую ей грубоватость черт: «Лоб у Над. Ег. показался каким-то слишком выпуклым посредине и в лице показалось что-то простонародное» (1:205). Примерно в это же время он обрел истинный идеал красоты в образе девушки-аристократки, встретившейся ему среди посетителей выставки, на которую он пришел специально, чтобы наблюдать и изучать женскую красоту: «довольно высокого роста, по крайней мере, много выше Над. Ег., тонкая, весьма стройная, весьма белое лицо, глаза прекрасные, черты чрезвычайно правильные, умные, несравненно лучше всего, что было тут» (1:290). Это посещение выставки, зафиксированное в дневнике в мельчайших подробностях, он вспоминал 30 лет спустя в письмах из Сибири. Причем, если в дневнике написано, что, очарованный красотой девушки, он минут пять шел за ней и ее семьей следом, пожирая ее глазами, то в письме из Сибири пять минут растянулись в «час или два». И тогда, в сибирской ссылке, он помнил: «Они были, очевидно, очень знатные люди, что видели все по их чрезвычайно милым манерам» (15:177). В письме из Сибири от 1879 года это воспоминание завершается следующим умозаключением: «Красавица, дивная красавица была та девушка, — иначе не могла ж бы она понравиться мне» (15:203).53 Ориентация на идеал была для Чернышевского защитным механизмом в борьбе с тем, что он называл «бесчувственностью» — с недостаточностью непосредственных реакций на внешние стимулы (явление, хорошо известное психопатологам). В поисках защитных механизмов он отталкивался в своей стратегии от современного ему культурного материала. За понятиями, с помощью которых он концептуализировал свой опыт, стояло представление о «метафизике идеального», оказавшей огромное влияние на мысли и чувства предшествующего поколения. Но идею возвышенной любви к идеально прекрасной женщине (что, по Шеллингу, было надежным средством для достижения «идентичности реального и идеального») он соединил со свойственной его времени позитивистской верой в «научные факты», в объективную оценку доступных перцепции внешних объектов. К оценке объекта своего возвышенного чувства он применил особую процедуру, основанную на объективном методе (который пришел на смену шеллингианской «эстетической интуиции») и направленную на то, чтобы найти позитивное доказательство идеального. Такой позитивно подтвержденный идеал должен был сыграть роль медиатора между Чернышевским и потенциальным предметом его любви. ЗАСТЕНЧИВОСТЬ Идея отчуждения личности от внешнего мира играла большую роль в системе немецкого идеализма. Для идеалистов 30-х и 40-х годов эта идея имела огромные психологические последствия. В 60-е годы, с приходом на общественную сцену разночинной интеллигенции, понятие отчуждения было переосмыслено в социальном ключе. Социальная изоляция и отсутствие политической власти бьши отличительными чертами новой интеллигенции; в обществе у них не было «ни места, ни дела».54 Интеллигенты были отчуждены и от мещанства, и от духовенства — сословий, к которым они принадлежали по своему происхождению, и от дворянства, к которому они примыкали в силу полученного образования и культурной роли. Вследствие их духовных и политических дерзаний у них было мало общего с первыми, а по социальным, психологическим и стилистическим причинам они бьши неприемлемы для вторых. Отрыв от корней и враждебность по отношению к обществу вызывали чувство одиночества и замкнутость; не меньшим препятствием к общению было гнетущее чувство социальной неполноценности и мучительной робости.
В 60-е годы люди, не принадлежавшие к высшему сословию, впервые в русской истории вошли в порядочное общество не в качестве даровитых одиночек, допущенных в салоны (как десятью годами раньше это произошло с Белинским), но как представители новой общественной группы, призванной сыграть важную роль в культурном и общественном развитии. Не владевшие формами светского поведения, неотесанные, неуклюжие сыновья сельских священников и провинциальных докторов то и дело попадали в новые, неожиданные для них ситуации. Для всех участников такие ситуации не укладывались ни в одну из существовавших систем поведения. «Разрыв современного человека со средой, в которой он живет, вносит страшный сумбур в частное поведение», — писал Герцен.55 Новая интеллигенция оказалась перед непосильной задачей принятия индивидуальных решений и, в конечном счете, создания нового поведенческого кода.56 Жесткие классовые перегородки впервые были разрушены в университетах. К началу 40-х годов университетское образование потенциально открывало дорогу к карьере и тем, кто не был дворянином по происхождению. Двери университетов были открыты для выпускников духовных семинарий, но на деле подготовку для поступления в университеты давали только гимназии и частные пансионы. Так, в семинариях не преподавали современные языки (французский и немецкий), которые были не только важной частью образования, но и инструментом социального общения. Готовя учащихся к духовной деятельности, семинарии (а также духовные и мещанские семьи) не давали таких навыков, как рисование, музыка, танцы, гимнастика, составлявшие непременную часть воспитания дворянского юношества. Большинство студентов университета были дворянами. «В дореформенное время петербургский студент был по преимуществу благовоспитанный юноша и светский молодой человек»,— вспоминал Николай Шелгунов.57 Поэтому молодым разночинцам часто доводилось испытывать болезненные и унизительные ощущения, когда сначала в университете, а позже в обществе они оказывались в среде благовоспитанных людей. Хуже того, там их далеко не всегда встречали радушно. Из шуток в адрес семинаристов и поповичей составился целый популярный жанр. Даже те из писателей-дворян (первых русских интеллигентов), кто сочувствовал демократизации просвещенного русского общества, в идейной и литературной полемике подчас в самых оскорбительных выражениях упоминали происхождение и манеры новых интеллигентов. Знаменательно, что соображения стилистические преобладали над идеологическими. Даже радикал Герцен, утверждавший, что «La roture [разночинцы] — единственная гавань, в которую можно спрыгнуть с тонущего дворянского судна»58, писал Ога- реву, потрясенный стилем «Что делать?»: «Мысли есть прекрасные, даже положения, и все полито из семинарского петербургски-мещанского урильника».59 В не предназначенном для печати тексте он писал, что стиль и манеры «этих людей» весьма сходны с «приемами подьяческого круга, торгового прилавка и лакейской помещичьего дома».60 Михаил Бакунин, впоследствии возглавивший анархистское движение, отозвался в частной беседе о критиках «Современника» как о «неумытых семинаристах».61 Писатели-дворяне, сотрудничавшие с «Современником», А. В. Дружинин, Д. В. Григорович, Тургенев и Лев Толстой называли Чернышевского «клоповоня-ющий господин».62 Авдотья Панаева, жена одного из редакторов «Современника», Ивана Панаева, сама активно печатавшаяся в журнале, вспоминала, что Тургенев, Павел Анненков и даже Василий Боткин, сын богатого купца, торговавшего чаем, и близкий друг Белинского, скептически относились к тому, что они называли вторжением семинаристов в журнал. Их снобизм побудил ее однажды сказать им за обедом: «Вините, господа, Белинского: это он причиной, что ваше дворянское достоинство оскорблено, и вам приходится сотрудничать в журнале вместе с семинаристами [...] Как видите, не бесследна была деятельность Белинского, проникло-таки умственное развитие и в другие классы общества».63 Нарекая на засилье разночинцев в «Современнике», Афанасий Фет, отнюдь не сочувствовавший проникновению плебеев в русскую культурную элиту, точно сформулировал суть конфликта: «Понятно, что туда, где люди этой среды, чувствуя свою силу, появлялись как домой, они вносили свои приемы общежития. Я говорю здесь не о родословных, а о той благовоспитанности, на которую указывает французское выражение "enfant de bonne maison", рядом с его противоположностью».64 Сами «семинаристы» болезненно ощущали свою социальную ущербность. Белинский, прототипический разночинец, был первым, кто подверг эту ситуацию анализу. Он достиг высокого положения в литературных кругах, сохранив самосознание простолюдина. Бедность, хронические болезни, недостаток систематического образования, плохое знание иностранных языков и, главное, отсутствие хороших манер породили робость и застенчивость, в которых он усматривал причину своей эмоциональной ущербности: «Одно меня ужасно терзает: робость моя и конфузливость не ослабевают, а возрастают в чудовищной прогрессии. Нельзя в люди показаться, рожа так и вспыхнет, голос дрожит, руки и ноги трясутся, я боюсь упасть. Истинное Божие наказание! Это доводит меня до смертельного отчаянья. Что за дикая странность? [...] я просто боюсь людей, общество ужасает меня. Но если я вижу хорошее женское лицо: я умираю — на глаза падает туман, нервы опадают, как при виде удава или гремучей змеи, дыхание прерывается, я в огне. [...] я болен, друг, страшною болезнью— пожалей меня».65 Белинский считал свои эмоциональные трудности социально обусловленными и возводил их к несчастным детским впечатлениям, вынесенным из семьи, которая была заражена вульгарными и безобразными привычками русского мещанства: «Вспомнил я рассказ матери моей. Она была охотница рыскать по кумушкам, чтобы чесать язычок; я, грудной ребенок, оставался с нянькою, нанятою девкою: чтоб я не беспокоил ее своим криком, она меня душила и била. Может быть — в этом разгадка дикого явления».66 В письме к своему другу и соратнику Бакунину, выходцу из просвещенной дворянской семьи, Белинский утверждает, что они с Бакуниным самым существенным образом различаются по темпераменту, что обусловлено наследственностью и условиями воспитания. Но и наследственное является социально обусловленным. Отец Бакунина обладал чувством собственного достоинства и следовал размеренному образу жизни — потому, по мнению Белинского, Бакунину достался от него «гармонический темперамент» и способность питать возвышенную, не омраченную чувственностью любовь к женщине. «А мой отец пил, вел жизнь дурную, хотя от природы был прекраснейший человек, и оттого я получил темперамент нервический» (с чем Белинский связывал свою приверженность к телесному).67 Этот аргумент, основанный на позитивистской вере в то, что дух зависит от материи, Белинский использует, чтобы проиллюстрировать фундаментальное различие между романтиком и реалистом. Как и интеллигенты последующего поколения, Белинский ощущал себя безнадежно ущербным даже рядом с самыми близкими друзьями-дворянами, которые отнюдь не превосходили его в интеллектуальном отношении и смотрели на него снизу вверх как на ведущего литературного критика эпохи (в 40-е годы он практически царил в русской литературе). Приглашения в светские салоны, посещаемые литературными знаменитостями, ввергали его в состояние паники. Выразительной иллюстрацией может служить литературный вечер в салоне у князя Одоевского (завсегдатаями которого были занимавший довольно высокое положение при дворе Жуковский и князь Вяземский, не только известный поэт, но и влиятельный чиновник), где Белинского постигла характерная неудача. Вот как описывает это происшествие Герцен: «Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жженку en petit comite, когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему, он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский, в белых форменных брюках с золотым "по- зументом", сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. [...] сделался гвалт [...] во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой. Милый Белинский! Как его долго сердили и расстраивали подобные происшествия, как он об них вспоминал с ужасом — не улыбаясь, а похаживая по комнате и покачивая головой».68 Этот эпизод стал популярным анекдотом своего времени и был использован Достоевским в «Идиоте», в сцене, где не привыкший к обществу князь Мышкин разбивает вазу в гостиной генерала Епан-чина и у него начинается эпилептический припадок (согласно одной версии рассказа, когда упал стол, с Белинским случился обморок). Мышкин, правда, не разночинец, но у него много общего с новыми людьми. Известно, что Достоевский, обдумывая образ Мыш-кина, намеревался вступить в полемику с Чернышевским.69 Областью общественной и личной жизни, более всего страдавшей от этих недостатков новых интеллигентов, были отношения с женщинами. Женщин их собственного социального круга почти не коснулись новые идеи, и для таких людей, как Белинский, Чернышевский и Добролюбов, они не годились в спутницы жизни. Эту проблему сформулировал Добролюбов в письме к другу-разночинцу: «Если бы у меня была женщина, с которой я мог бы делить свои чувства и мысли до такой степени, чтоб она читала даже вместе со мною мои (или, положим, все равно — твои) произведения, я был бы счастлив и ничего не хотел бы более. Любовь к такой женщине и ее сочувствие — вот мое единственное желание теперь. [...] сознание полной бесплотности и вечной неосуществимости этого желания гнетет, мучит меня, наполняет тоской, злостью, завистью».70 Замечательное описание этой коллизии встречается в письме к Белинскому поэта и купца А. В. Козлова (еще одной жертвы социального возвышения за счет литературного успеха): «Помните, мы шли как-то с Вами по линии Васильевского острова, с нами повстречалась хорошенькая, вы мне сказали: "Да, их здесь много, да все они не наши"».71 В отсутствие таких женщин привязанности и страсти новых людей делились между миром падших женщин, которых они пытались спасать и перевоспитывать — как правило, с трагическими последствиями, и обществом светских женщин — блестящих, соблазнительных и недоступных." Высшее общество, особенно светские женщины, обладали всей притягательностью чужого мира. Женщина-аристократка ассоциировалась с миром романтики и поэзии и в глазах молодых провинциалов-семинаристов обладала всеми качествами «идеальной женщины», внушающей «возвышенную любовь» — чувство чисто духовной природы. Когда двери светских гостиных открылись перед безродными молодыми людьми, их ожидало там новое препятствие — эмоциональный барьер, возникший из-за недостатка у них раскованности и светского лоска. Некрасов, культивировавший образ разночинца в качестве своего лирического героя, посвятил стихотворение этому эмоционально-социальному комплексу, тем самым вводя его в культурное сознание эпохи. Сюжетом этого стихотворения, названного им «Застенчивость» (1852), является любовь разночинца к светской даме. По словам Чернышевского, это стихотворение Некрасова в буквальном смысле слова заставляло его рыдать (14:322). В своем дневнике Чернышевский ссылается на отсутствие хороших манер как на важнейшую причину, отделяющую его от общества женщин, в особенности светских женщин. Поэтому как ни ценны были для него приглашения, сулящие возможность быть представленным молодым девушкам, он отклонял их: «Не согласился быть введенным к ним в дом, потому что [...] неловко: не говорю по-французски, не танцую, наконец, нехороша одежда и мало денег» (1:249). «Эта Бельцова должно быть порядочная девушка и должно быть умная; мне бы хотелось познакомиться с нею, если бы я был в состоянии держать себя в обществе, как должно, а то ни говорить по-французски, ни танцовать, да и, главное, слишком неуклюж, семинарист в полной форме» (1:344). И это вовсе не было личной особенностью Чернышевского. Тему французского языка затрагивает Лободовский в своей книге очерков («Бытовые очерки»73); Добролюбов, ближайший друг Чернышевского и его «двойник» в более поздние годы, почти в тех же выражениях говорит об этом в своем дневнике. В письме Добролюбова к В. М. Пещуровой, светской даме, покровительствовавшей одаренному разночинцу, содержится горькая жалоба на «застенчивость», «неловкость», незнание светского этикета. Он подчеркивает, что не умеет танцевать и рисовать, «не делал ни малейшей гимнастики», поздно принялся за изучение французского и немецкого языков. Из-за подобных пробелов воспитания он сознает, что не владеет тем, что отлично известно его «теперешним знакомым».74 Французский язык стал символом всего этого комплекса эмоций, обнаруживая чисто семиотическую природу явления. Многие интеллигенты, не принадлежавшие к высшему сословию, были прекрасно образованы и отлично владели иностранными языками (главным образом — благодаря самостоятельному чтению), однако в обществе упор делался не столько на знание французского языка как такового, сколько на безупречное произношение: дурной акцент выдавал тех, кто не учился французскому языку с детства у гувернанток-француженок, и был признаком парвеню— чужака и выскочки. Вот как об этом пишет (от лица своего героя) в «Юности» (1855—56) Лев Толстой: «Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй род подразделялся еще на людей собственно не comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых — притворялся, что презираю, но, в сущности, ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали — я их презирал совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. "Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?" — с ядовитой усмешкой спрашивал я его мысленно».75 Чернышевский с легкостью читал по-французски, по-немецки и еще на нескольких языках, но это не могло изменить к лучшему его положение в хорошем обществе. Характерно, что лучше всего он владел латынью — языком семинарского образования. (А вот Толстой получил низкий балл по латыни при поступлении в Казанский университет в 1844 году.) В воспоминаниях современников сохранились рассказы о двух попытках Чернышевского овладеть разговорным французским языком. Обе закончились ужасным чувством неловкости и ударом по чувству собственного достоинства, нанесенным женщиной. Еще в отроческие годы в Саратове, уже имея репутацию блестящего ученика, Чернышевский посещал уроки французского языка в частном пансионе, но, услышав от одной девочки, что над его произношением смеется весь класс, оставил эту затею. Позже, уже по окончании университета, будучи учителем в саратовской гимназии, Чернышевский начал брать уроки разговорного французского языка у одной знакомой барышни. Услышав впервые его выговор, учительница залилась смехом, а ученик схватил шапку и выбежал, не попрощавшись, и больше уже никогда не возобновлял таких попыток.76 Тема эта попала в художественные произведения Чернышевского. Главный (автобиографический) герой «Пролога» (1867) Волгин— до смешного дурно говорит по-французски, хотя прекрасно знает французскую грамматику и этимологию, что проявляется в сцене, описывающей его встречу с девушкой-аристократкой (13:48—68). Герой «Что делать?» Лопухов, еще один образованный разночинец, напротив, овладевает французским языком, как и танцами, и игрой на фортепиано. К удивлению и удовольствию главной героини, которая предполагает, что студент такого социального происхождения должен быть «дикарь», он ведет себя со светской непринужденностью. Еще одну проекцию этой же темы мы встречаем в романе «Отблески сияния» (1979—82). Центральный персонаж, дворянин, получает прекрасное воспитание и владеет всеми аристократическими навыками, однако он отказывается учиться петь, танцевать, рисовать и ездить верхом (хотя и изучает французский язык), чтобы стать человеком, «непригодным ни к чему в салонах». Благодаря этому он надеется не поддаться «влечению влюбляться» и, таким образом, сохранить свою чистоту до женитьбы (13:639) — стремление, которое испытывал и молодой Чернышевский. Молодым разночинцам-интеллигентам последствия этих, казалось бы, незначительных слабостей представлялись катастрофическими. Отсутствие светского лоска оборачивалось личной скованностью; робость препятствовала сближению и считалась основной причиной холодности и апатии. Так, через посредство понятия застенчивости, идея бесчувственности переводилась в социальный план. Застенчивость проявлялась не только в гостиных, но и на улице, и во всех тех ситуациях, в которых обнаруживался неоднозначный социальный статус разночинцев, принадлежавших к образованному классу, но не располагавших властью, дававшейся материальным и официальным положением. Поскольку по внешнему виду и по манерам они отличались от представителей высших сословий, на них смотрели сверху вниз и квартирные хозяйки, и лавочники, и швейцары, и прислуга, не говоря уж о чиновниках и армейских офицерах. В своих дневниках Чернышевский вновь и вновь описывает подобные ситуации. Он мучится тем, что владелец кондитерской, куда он ходил только за тем, чтобы читать иностранные газеты, видит в нем нежеланного посетителя (1:277). Он огорчается и негодует, что оказался неспособен оградить себя от оскорблений домовладельца, который застал его испражняющимся в саду (что по тем временам было довольно обычной практикой для людей происхождения Чернышевского) (1:295—96). Он радуется своей победе над извозчиком, который задел оглоблей бедно одетого юношу— в отместку Чернышевский вырвал у него пук волос (1:172); с восторгом пересказывает историю Лободовского, который поставил на место чиновника, ехавшего на одной с ним лодке и выказавшего презрение к разночинцу (1:307). Эти, далеко не тривиальные, ситуации и комплекс эмоций, ими вызываемых, нашли свое отражение в романе «Что делать?»: Лопу- хов невозмутимо швыряет в канаву «значительное лицо», толкнувшее его на улице за то, что он не посторонился и не уступил дорогу. Впоследствии, полемизируя с Чернышевским, Достоевский описывает такую же сцену в «Записках из подполья»: когда герой о
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 746; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.113 (0.024 с.) |

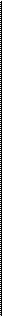 60
60 62
62 66
66


