
Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Евангельские таинства в позитивном ключеСодержание книги Поиск на нашем сайте
Важнейший аспект христианской символики романа — это рационально объясненные чудесные превращения одного качества в другое, высшее, своего рода таинство преображения. В узком смысле, преображение — это явление божественного лика Христа ученикам во время его земной жизни: «И преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2). Преображение предвосхищает тот облик, который примут люди в будущей жизни, когда преобразится весь земной мир. В романе чудо преображения воплощено в эволюции образа Веры Павловны. Вера Павловна, о которой сначала повествуется как об обыкновенной женщине, встречается в своих снах с богиней. Богиня представляется как «невеста твоего жениха», то есть является двойником Веры Павловны. (Само имя Веры указывает на одну из главных православных святых — девушку, посвященную Христу, Христову невесту.) В Четвертом сне тождественность Веры Павловны и богини устанавливается несомненным образом. Это божественное существо первоначально предстает во славе и сиянии, за которыми невозможно разглядеть очертания ее человеческого лица («ты являлась мне, я видела тебя, но ты окружена сиянием, я не могла видеть тебя»; 281). Но вот ее лик меняется, и Вере Павловне открывается человеческое лицо богини: «для тебя на эту минуту я уменьшаю сиянье моего ореола [...] на минуту я для тебя перестаю быть царицею» (281). Но человеческое лицо богини — это Верино собственное лицо. Богиня, таким образом, претерпевает операцию, обратную преображению (божество являет свой человеческий образ), в то время как человеческое существо преображается, возвышаясь до божественной славы и блистающей красоты. «Да, Вера Павловна видела: это она сама, это она сама, но богиня. Лицо богини — ее самой лицо, это ее живое лицо, черты которого так далеки от совершенства [...] она прекраснее [...] доселе известных красавиц» (281-82). «Двойное преображение» — очеловечение Бога и обожествление человека — это реализация фейербаховского принципа: Бог есть человек; человек есть Бог. В четвертом сне фейербаховская философская формула тождественности совмещается с библейской фразеологией и образами французского христианского социализма, с его феминизмом, достигшим апогея в феминизации Христа. «Нет ничего выше человека», — говорит богиня Вере Павловне, «то есть нет ничего выше женщины» (281). В одном пункте Чернышевский отходит от канона, установленного позитивистами в их ревизии христианской доктрины. Одним из главных элементов фейербаховской критики религии было отвержение чудес, как явлений не доступных чувственному восприятию и не согласующихся с законами природы. Суть превращения Христом воды в вино (утверждает Фейербах) сводится к косвенному утверждению того, что два противоположных предиката или субъекта являются тождественными. Это кажется постижимым, поскольку окончательную трансформацию — видимое проявление идентичности двух противоречивых сущностей — можно наблюдать. И все же тут есть внутреннее противоречие: само чудо, превращающее воду в вино, — это не естественный процесс, и следовательно, он не может быть объектом чувственного восприятия или какого-либо реального или мыслимого опыта46. Чернышевский вносит изменения в это положение фейербаховской критики христианства. В своем романе он предлагает научное объяснение чуда: сама трансформация изображается как естественный процесс. Во Втором сне Веры Павловны осуществляется перевод идеи преображения (понимаемого в широком смысле, как чудесная трансформация того или иного свойства) на язык науки. Вере Павловне снится, что Лопухов с другом рассуждают, расхаживая по полю, об «анализах, тожествах и антропологизмах». Обсуждаемый ими принцип таков: «Пусть немного переменится расположение атомов и выйдет что-нибудь другое» (123). Оказывается, что трансмутация (или преображение) — не более чем химическая перестановка атомов, в результате которой происходит конверсия одного химического соединения в другое, высшее. Чернышевский иллюстрирует этот принцип пространной агрохимической аналогией: солнце согревает влажную почву, под действием тепла происходит перемещение элементов и формирование более сложных химических соединений (форм высшего порядка); тогда колос, белый и чистый, вырастает из гнилой, черной грязи. Разрушение превращается в созидание, черное становится белым. (Этот принцип приводит на память теорию добра и зла, по Чернышевскому: «При известных обстоятельствах человек становится добр, при других— зол»). Про- должая сельскохозяйственную аллегорию, Чернышевский разрабатывает и уточняет понятие трансформации и, в конечном счете, связывает его с понятием реальности. Есть два типа грязи: одна «на языке философии, которой мы с вами держимся» называется «реальной грязью», а другая — «фантастической», или «гнилой». Реальная грязь, хотя она и продукт разложения, — плодотворна; фантастическая грязь — бесплодна. Причина такой ненормальности — отсутствие движения. Фантастическая, или гнилая, грязь бесплодна, потому что вода в ней застаивается, и это способствует дальнейшему разложению; если вода движется и стекает, поле делается здоровым и плодоносным. Понятие движения получает дальнейшее развитие. Главная форма движения — это труд, или деятельность; труд является основой всех других форм движения — отдыха, развлечения, веселья и т. п. Без движения нет жизни, нет реальности. Таким образом, согласно аргументации Чернышевского, реальность — это те явления жизни, которые могут, когда к ним приложено движение, то есть деятельность, трансформироваться в другие, противоположные явления (гнилая, черная грязь, которая может стать живым, белым пшеничным колосом). Беседа между Лопуховьш и его знакомым представляет собой адаптацию агрохимической теории Юстуса Либиха, которая оказала большое влияние на русских радикалов47. Однако за метафорическим употреблением понятий современной агрохимии стоит новозаветный символизм. Наряду с христианской символикой возделывания земли, Чернышевский использует и русский, языческий символ матери-сырой земли. И что еще важнее, за понятиями, изложенными Чернышевским, стоит новозаветный принцип преображения. Таким образом, в романе Чернышевского чудо преображения (в широком смысле— чудесное превращение качества) приобретает научную доказательность, в соответствии с конкретными научными принципами (агрохимической теорией Либиха). Как бы в ответ на критику Фейербаха, сама трансформация (превращающая воду в вино, черное — в белое, мертвое — в живое, человеческое — в божественное) представлена как естественный процесс, который объясняется с помощью научных, химических терминов. То, что было христианским чудом, а также понятием идеалистической метафизики (гегелевская качественная трансформация), представлено как научно постижимый феномен и, тем самым, объект (в терминах Фейербаха) если не действительного, то возможного опыта. Модель трансформации, которая возникает на пересечении мистического и научного, затем воплощается в литературной структуре и становится повествовательной моделью. Как было показано выше, базовый структурный принцип, управляющий организацией всего романа и пронизывающий текст на разных уровнях, от идео-
логического до риторического, — это примирение противоположностей, т. е. трансформация одного признака в другой, противоположный. В романе эти трансформации осуществляются с помощью риторических операций, упорядоченных с почти математической точностью. Однако евангельская модель превращения воды в вино, мертвых — в живых, человека — в божество здесь узнаваема. В сущности, инверсия положительного и отрицательного полюсов оппозиции следует формуле: «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Мф. 19:30). Таким образом, христианские принципы пронизывают роман, от его научных аллегорий до повествовательной стратегии и риторических приемов. * * * Возникает вопрос: в чем состоит прагматический смысл описанного выше арсенала повествовательных приемов? Фейербах предложил психологическое объяснение власти религии, основанной на чуде: «[Религия] отменяет все пределы и все законы, болезненные для чувств, предоставляя человеку возможность немедленной, абсолютно неограниченной реализации его субъективных желаний»''8. В романе «Что делать?» Чернышевский, верный ученик Фейербаха, в соответствии с русской традицией превращения литературы в религию, попытался использовать литературный текст именно с этой целью. Он воплотил свою модель реальности как потенции для преобразования в романе, в самой его художественной структуре. Если представив христианское таинство преображения в научных терминах, Чернышевский дал научное обоснование чуду, то воплотив этот принцип в повествовательной структуре романа, он сделал свою модель вездесущей. Как он и планировал, его модель была приемлемой и для тех, кто не доверял ничему, кроме научных трактатов, и для тех, кто читал одни романы. Роман будил особый эмоциональный отклик в среде молодых разночинных интеллигентов-шестидесятников— в умах, взращенных на современных идеалах позитивной науки, но при этом сформированных русской православной традицией. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Как объяснить силу воздействия Чернышевского и его романа на современников? Чернышевский рассматривал искусство как средство глобальной организации действительности, как учебник жизни, позволяющий разрешить главные проблемы человеческого существования. Он не только разработал теорию искусства, в которой подробно изложил эту идею, но и создал произведение искусства, которое могло бы послужить для современников инструментом для овладения действительностью и ее переделки. Выполняя эту задачу, он не игнорировал и не преуменьшал значения художественной формы, как предполагают некоторые критики. Напротив, роман «Что делать?» плодотворно использует активную творческую энергию художественной структуры. Как произведение искусства, роман являет собой модель реальности. Мир организуется в терминах оппозиций двух контрастирующих признаков, понятий или лиц, — таких оппозиций, которым присущи неограниченные возможности трансформации одного признака, понятия или лица в другое. В этом смысле можно сказать, что роман построен как миф. Общая концепция мира, проецируемая романом, такова: реальность состоит из элементов, которые, в каждой ее точке, могут трансформироваться в нечто другое. Таким образом, фундаментальным принципом, выдвинутым романом, является трансформация (будь то переустройство, превращение или революция) того или иного свойства или формы бытия. При этом роман предлагает читателю нечто большее, чем модель реальности как потенции для трансформации. «Проницательному читателю» предлагаются конкретные ходы для овладения реальностью, ее трансформации и, в конечном счете, — средство освобождения от ограничений, которые реальность накладывает на человека, особенно человека того круга, к которому роман обращен — людям новым на культурной сцене. Роман Чернышевского обладал способностью освободить членов новой русской интеллигенции от свойственного им ощущения неполноценности, связанного с их социально-культурным положением. Самый принцип действует и за пределами исторически конкретной ситуации. Спроецированная в область частного опыта, литературная структура способна организовать и индивидуальное видение окружающего мира, и самую личность читателя. Тщательно упорядоченный арсенал структурных средств, содержащихся в ро- мане, может быть использован как психологичекий механизм, обеспечивающий символическое разрешение конфликтов. Все оппозиции могут быть сняты, все противоречия улажены, все болезненные стороны действительности могут быть осознаны как иллюзорные (и таким образом они символически упраздняются); за внешним покровом можно найти вторую, «истинную» реальность, пусть иногда и противоречащую первой. Созданная Чернышевским структура обладает потенциальной способностью проецироваться на различные жизненные ситуации. Роман изобилует конкретными деталями обыденной жизни, опознаваемыми читателями-современниками. Воспринятая сквозь литературу, обыденная жизнь осознается как символически нагруженная и универсально значимая, в, казалось бы, тривиальном выявляется телеологический порядок вещей. Секрет влияния Чернышевского лежит также в присущем его мышлению и его роману уникальном смешении и интеграции различных традиций и течений, имевших большое значение для его времени: русского православия, французского христианского социализма, левого гегельянства, английского утилитаризма, позитивистского научного подхода к жизни, эстетики реализма и остатков идеализма и романтизма. Творческий синтез этих течений обеспечил и непрерывность традиции, и революционные перемены, и универсализм, и национальное своеобразие. За творческими усилиями Чернышевского стоит вера в безграничную силу человеческого разума, способного переделать мир, жизнь и даже самую человеческую природу с помощью независимых, «рациональных» принципов — такая вера была типична для эпохи реализма. Ему свойственна, однако, и романтическая вера в безграничную силу искусства— именно произведение искусства было избрано автором как основное движущее средство «разума». Однако в эпоху реализма произведение искусства перестало быть предметом эстетического поклонения. В отличие от романтических литературных моделей, модель Чернышевского была основана на антиэстетике. Идея плохого писателя, то есть автора эстетически слабого, практического человека (человека действия), политического деятеля и популяризатора науки, а не поэта, стала неотъемлемой частью его модели. Роман Чернышевского осуществил свое предназначение не вопреки художественным слабостям, а благодаря им. И в этом смысле он был прав, заявляя в предисловии к роману, что несовершенство его художественного таланта не имеет значения и что его труд займет свое место среди прославленных сочинений великих писателей. В сущности, роман «Что делать?» можно считать более подходящим средством для построения символической модели мира эпохи реализма и человека эпохи реализма, чем романы, которые читатель нашего времени считает гениальными, такие, как сочинения Толстого и Достоевского. Неудивительно, что роман Чернышевского оказал такое влияние на поколение «новых людей» 60-х годов и на их последователей — на людей, которые стремились к перестройке и преображению всей жизни. * * * Главной задачей этого исследования было проследить трансформацию человеческого опыта, принадлежащего определенной исторической эпохе, в структуру литературного текста, и влияние этого текста на опыт читателей. Предлагаемое мной решение поставленной проблемы имеет эмпирический характер — это не теория или методологическая формула, а описание процессов, посредством которых субъект (писатель) вписывается в историю культуры, и анализ текстов, проявляющий те структурные принципы, которые накладывают отпечаток на субъективный опыт читателя. Среди других моментов я старалась показать, как повествовательные приемы служили психологическими защитными механизмами и как защитные механизмы превращались в повествовательные приемы, как эмоции рождались путем реализации метафор, являясь непосредственным продуктом культурного кода, а также как структура художественного текста может выступать как универсальный механизм символического разрешения конфликтов. Речь идет не просто об имитации человеком литературного или культурного образца и не о том, как культура задает нормы и типы поведения, а о взаимном проникновении структуры сознания и структуры художественного текста и культурного кода. На примере Чернышевского я старалась показать и как эти процессы играют роль не только в развитии личности, но и в эволюции культуры. В живущем и развивающемся человеке, как в неком лабораторном пространстве, встречаются и перестраиваются элементы различных философских, художественных, идеологических систем — культурные коды и культурный материал идет в переборку. ПРИМЕЧАНИЯ ВВЕДЕНИЕ 1 Boris Gasparov, «Introduction,» in Alexander D. Nakhimovsky and Alice Stone 2 См. Лидия Гинзбург, «О психологической прозе» [1971], 2-е изд., Ленинград, 3 См. следующие работы: Ю. М. Лотман, «Театр и театральность в строе куль А Что касается философских оснований такого подхода, то можно провести параллель между идеями семиотики культуры и философией символических форм Эрнста Кассирера, согласно которой язык, миф, историческая и научная мысль, искусство и литература создают, а не отражают то, что называется человеком «реальным миром». Хаос непосредственного чувственного восприятия, эмоций, желаний, интуитивных постижений и мыслей обретает форму и смысл лишь тогда, когда становится символической системой, обладающей связностью и выразительностью. Эти идеи, зародившиеся в 1920-е годы, в контексте нео-кантианства, были опознаны современными семиотиками как «протосемиотические». Философским основанием подходов к культуре и поведению как к тексту, сформировавшихся на Западе, послужила и философская традиция герменевтики. (О герменевтике см. Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode [Правда и метод], 1960.) Герменевтика, опирающаяся на феноменологическую философию, вдохновила, например, модель «действие как текст», выдвинутую в статье Paul Ricoeur, «The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text» (1971). Другой философский источник такого подхода — Ницше, в частности, идея мира как эстетического феномена, т. е. взгляд на мир и человека как на литературный текст, который подлежит интерпретации в терминах и категориях, применимых к произведениям литературы. (Так ис- толковал Ницше Alexander Nehamas, в книге Nietzsche: Life as Literature, Cambridge, Mass., 1985.) Ницшеанские принципы интерпретации и мысль о связи между структурой знания и структурой власти послужили одним из источников эпистемологии Мишеля Фуко. В 1960—80-е годы Фуко ввел в научный обиход понятия и методы, которые — не приведя к созданию единой школы — вдохновили разнообразные исследования, рассматривающие аспекты человеческого опыта и частной жизни как культурные конструкты. К настоящему времени в нашем распоряжении имеются многочисленные истории сексуальности, человеческого тела, чувств (запаха, стыда, вины) и различных аспектов частной жизни, написанные в основном на французском и английском материале. См., например, библиографию в пятитомном издании «История частной жизни» под общей редакцией Philippe Aries и Georges Duby (Histoire de la vieprixie, Paris, 1985—87). 5 Ю. Лотман, «Декабрист», с. 28. 6 Это направление мысли связано с именем Мишеля Фуко (который опирался 7 О перспективах семиотического исследования эпохи реализма см. Ю. Лот 8 H. Анненский, цит. по Т. А Богданович, «Любовь людей шестидесятых го 9 Представления об эпохе 1860-х гг., изложенные в моем вступлении, сложи 10 Об интеллигенции см. Martin E. Malia, «What Is Intelligentsia?», Daedalus, 11 E. Штакеншнейдер, «Дневник и записки», Москва-Ленинград, 1934, с. 161. 12 Rene Wellek, «The Concept of Realism in Literary Scholarship», in his Concepts of 13 См. Лидия Гинзбург, «Литература в поисках реальности», Ленинград, 1987, 14 См. Wellek, p. 242—45; Лотман, «О Хлестакове», с. 52—53; Гинзбург, «О лите
15 Ф.М.Достоевский, «Полное собрание сочинений в 30 томах», Ленинград, 16 См., например, Berlin, p. 127—31; от отношениях между искусством и дейст 17 M. E. Салтыков-Щедрин, «Полное собрание сочинений в 20 томах», Москва, 18 Типичный пример этому— конфликт, возникший из-за романа Тургенева 19 Н. В. Шелгунов, «Воспоминания», Москва-Петроград, 1923, с. 98. 20 Цит. по «Шестидесятые годы», под ред. Н. К. Пиксанова и О. Г. Цехновице- 21 См., например, Д. И. Писарев, «Сочинения в 4 томах», Москва, 1955—56, т. 22 Об этих событиях см. П. С. Рейфман, «Борьба в 1860-х годах вокруг романа 23 М. А. Антонович и Г. 3. Елисеев, «Шестидесятые годы. Воспоминания», Мо 24 Писарев, 3:51. Об этом см. Edward J. Brown, «Pisarev and the Transformation of 25 А. И. Герцен, «Собрание сочинений в 30 томах», Москва, 1954—65, т. 20, с. 26 Гинзбург, «О литературном герое», с. 52—54. 27 Как указал П. С. Рейфман, «молодое поколение» — это не указание на воз 28 Многие авторы отмечали, какую важную роль сыграло слово «нигилизм». 29 Н. Г. Чернышевский, «Что делать? Из рассказов о новых людях», под ред. 30 Герцен, 20:337. 31 «Московские ведомости», 1879; цит. по публикации в издании «Литератур 32 С. Степняк-Кравчинский, «Сочинения», в 2 т., Москва, 1958, т. 1, с. 371. 33 В статье «Мотивы русской драмы» Писарев писал: «Молодежь проникнется 34 А. М. Скабичевский, «Литературные воспоминания», Москва—Ленинград, 35 Скабичевский, с. 250. 36 Газета «Весть», 46 (1864); цит. в книге Charles Moser, Antinihilism in the Russian 37 В. К. Дебагорий-Мокриевич, «Воспоминания», Париж, 1894, с. 4. 3* А. С. Leefler, Sonia Kovalevsky: Biography and Autobiography, New York, 1895, p. 11. 39 П. А. Кропоткин, «Записки революционера», Москва, 1990, с. 269 (оригинал 40 Шелгунов, с. 256.
41 Кропоткин, «Записки революционера», с. 266 (original: Memoirs, p. 297). 42 Котляревский, с. 256. 43 Л.Ф.Пантелеев, «Из воспоминаний прошлого», Москва-Ленинград, 1934, 44 Свидетельство Шелгунова, см. Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Ми 45 Версия биографа Чернышевского, Ю. М. Стеклова, см. его «Н. Г. Чернышев 1928, т. 2, с. 324. Для ознакомления с этим эпизодом с точек зрения участников см. 46 См. Шелгунов и др., 1:157. 47 Г. Малышенко, «Николай Гаврилович Чернышевский», Русская мысль, 3, 48 Н. М. Чернышевская-Быстрова (ред.), «Дело Чернышевского», Саратов, 49 Литературное наследство, 67 (1959): 130. 50 См. обзор мнений историков в книге N. G. О. Pereira, The Thought and Teachings 51 Подробный очерк взглядов Чернышевского содержится в книге Pereira. 52 Конкретные свидетельства см. в Чернышевская-Быстрова, «Дело Черны 53 Н. Николадзе, «Воспоминания о шестидесятых годах», Каторга и ссылка, 5, 1929, с. 29; цит. у Pereira, p. 13. 54 Цит. по Стеклову, 2:221. 55 Там же, с. 212. 56 Там же, 1:153. 57 Ю. Г. Оксман (ред.), «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», 58 Описание обстоятельств публикации романа дано С. А. Рейсером в издании 59 Каторга и ссылка, 44 (1928), с. 50. во д. фет, «Мои воспоминания, 1884—1889», 2т., Москва, 1890, т. 1, с. 429. 61 «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы», 2, Саратов, 1962. 62 Скабичевский, с. 248—49. 63 Антонович и Елисеев, с. 300. 64 Пиксанов и Цехновицер, с. 418. 65 П. А. Кропоткин, «Идеалы и действительность в русской литературе», Буэ 66 В. Г. Плеханов, «Литература и эстетика», 2 т., Москва, 1958, т. 2, с. 175. 67 В.Г.Плеханов, «Н.Г.Чернышевский», Санкт-Петербург, 1910, с. 71, цит. у 68 П. П. Цитович, «Что делали в романе "Что делать"», Одесса, 1879, с. iv-v. 69 О распространении романа см. Рейсер, в издании Н. Г. Чернышевский, «Что 70 Скабичевский, с. 249—50. 11 О коммунах см. Корней Чуковский, «Люди и книги шестидесятых годов», Ленинград, 1934, с. 232—66, Stites, p. 108—11, 118—21; см. также воспоминания, Жуковская, с. 154—224, Авдотья Панаева, «Воспоминания», Москва, 1972, с. 327—35, Скабичевский, с. 226, Водовозова, 2:199—207. 72 Водовозова, 2:206—7. 73 Stites, р. ПО. 74 Достоевский, 8:349. 75 Стеклов, 2:217. 76 Там же. 77 Там же, 2:219. 78 Там же, 2:132. 79 См. Н. Валентинов, «Встречи с Лениным», New York, 1953, с. 76, 101—8 и 80 Замечание Н. Русанова, см. публикацию в журнале «Русское богатство», 11 81 «Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словес 82 И. С. Книжник-Ветров, «Русские деятельницы Первого Интернационала и 83 О фиктивных браках см. Stites, p. 106—107, Brower, p. 25—26 и воспомина 84 С. С. Синегуб, «Воспоминания чайковца», Былое, 9 (1906), с. 95, 109. 85 См. Stites, р. 107. 86 «Маяковский в воспоминаниях современников», сост. Н. В. Реформатский,
87 См. Olga Matich, «Dialectics of Cultural Return: Zinaida Gippius" Personal Myth,» 88 Описывая первые годы брака Ковалевских, биограф Софии Ковалевской 89 Ковалевская, с. 223. 90 Там же, с. 182; Leffler, р. 31. 92 Это интерпретация Stites, p. 106, и Koblitz, p. 131. Другой точки зрения на ха 93 Ковалевская, с. 384. 94 Leffler, p. 119. Более подробную информацию об этих предприятиях см. у 95 Leffler, р. 119. О пьесе Ковалевской см. также Leffler, p. 112—19, и Ковалев 96 Charles Moser дает подробный обзор этой литературы в упомянутой выше 97 О том, как Набоков работал с материалами о Чернышевском (какие именно 98 М. М. Бахтин писал о заслугах Чернышевского в разработке формы поли
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 334; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.133.148.130 (0.02 с.) |

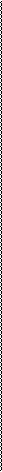

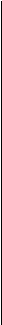 183
183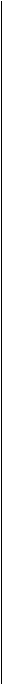

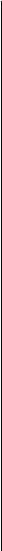 189
189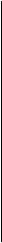

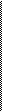 191
191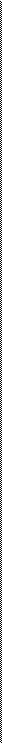 193
193


