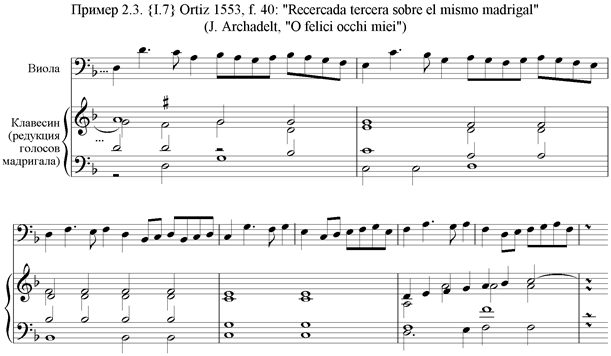Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Эволюция стилей диминуирования
На протяжении XVI и начала XVII вв. можно наблюдать и сосуществование разных индивидуальных стилей диминуции (достаточно сравнить между собой, к примеру, венецианские учебники 1580-90-х гг. или лютневые интабуляции Франческо да Милано и Альберто да Рипы), и определенное историческое их развитие. Первое, что бросается в глаза, — происходящая к концу века замена восьмой ноты как основы ритмического движения диминуций шестнадцатой или даже тридцатьвторой (Далла Каза, оба Роньони и др.). В целом, однако, эволюцию нельзя описать в одних только терминах технического усложнения. Мы попытаемся показать несколько параллельно проходящих процессов, ведущих от собственно «ренессансной» орнаментации к стилю, который можно назвать «маньеристским». В вокальной музыке первой половины XVI в., особенно в композициях alla breve (где счетная ритмическая единица, «тактус», соответствует бревису), семиминима («четверть») остается самой мелкой из общеупотребительных длительностей («восьмые» еще достаточно редки и используются лишь в каденционной орнаментации). Соответственно инструментальная диминуция осуществляется тоже в основном в четвертях с эпизодическим введением «восьмых»[219]. К середине века (и вплоть до 1570–80-х гг.) роль основной орнаментальной длительности переходит к «восьмой» (fusa, croma). Дело здесь, видимо, не столько в развитии виртуозности и в ускорении диминуций, сколько в постепенном устаревании нотации alla breve: мадригалы и шансон, составляющие основу репертуара инструменталистов 1550–80-х гг., обычно нотированы в семибревисном, а не в бревисном «тактусе». Общий музыкальный стиль орнаментации на протяжении 1530–80-х гг. меняется не очень сильно: диминуции имеют довольно-таки мелодичный характер и, несмотря на беглость, не производят впечатления особой аффектности, неуравновешенности. В общем, они украшают модель, но не ведут к эстетическому переосмыслению музыки[220]. Описанный стиль хорошо иллюстрируется примерами из книги Д. Ортиса ([I.7] Ortiz 1553) и лютневыми и клавирными интабуляциями эпохи (к примеру, «Susanne un jour» О. ди Лассо — А. Габриели, приведенной в нашем Приложении III.1). Плавность и уравновешенность, впечатление естественности достигаются следующими средствами: 1) преимущественно поступенным движением;
2) уравновешенным распределением диминуций по голосам и регистрам; в интабуляциях «диагональное» перетекание диминуции из голоса в голос используется чаще, чем резкая смена регистра; 3) преимущественно ровным, однообразным поступательным ритмическим движением (с малым количеством остановок и резких смен длительностей), создающим впечатление текучести; 4) избеганием диссонансов на «сильных» нотах (то есть довольно точным следованием вышеописанным правилам диминуирования) [221]. Как правило, диминуции 1530–80-х гг. не нарушают контуры голосов оригинала, и их введение не слишком «размывает» музыкальную форму последнего, не делает ее неясной на слух. Конечно, при наличии в оригинальной композиции повторяющихся фраз или разделов авторы обработок предпочитают точным репризам — варьированные с помощью новых диминуций (в импровизации же повторить те же диминуции попросту не представляется возможным!). Однако иногда членение формы делается ясным благодаря иным приемам. Например, А. Габриели в «Susanne un jour» (Приложение III.1) оставляет начало каждого раздела без орнаментации[222]. Соблюдая (в основном) голосоведение и форму оригинала, некоторые диминуированные обработки привносят, однако, и новый по сравнению с моделью структурный элемент. Это случается, когда диминуция оформляется не только как расцвечивание некоего мелодического «скелета», но и, одновременно с этим, как разработка кратких ритмических или мелодических мотивов, вообще не обязательно связанных с оригиналом. Разработка эта осуществляется путем повторения и транспозиции мотивов на разные ступени звукоряда (секвенции). До 1580–90-х гг. данный метод работы был более распространен в диминуциях для голосов или мелодических инструментов, чем в интабуляциях для лютни или клавира. В конце XVI – нач. XVII вв. он получит дальнейшее развитие в музыке для виолы бастарды и в стилях лютневой и клавирной музыки, испытавших влияние последней. Наш Пример 2.3 («ричеркар» Ортиса для виолы по мадригалу Аркадельта «O felici occhi miei») дает о методе наглядное представление.
В некоторых случаях микроразработки в форме секвенций возникают, видимо, почти неосознанно и мало влияют на форму целого (см. «Susanne un jour» А. Габриели в Приложении III.1, нижний голос в т.11 и верхний — в т.14). В других же (как у Ортиса) — участками создается структура второго плана, независимая от формы оригинала и более дробная[223]. В условиях сильно орнаментированной обработки, когда голоса оригинала могли, по-видимому, исполняться в замедленном темпе и в большей или меньшей степени затеняться диминуциями, подобная «вторичная» форма принимала на себя как раз-таки «первичные» функции: создание мотивных структур, фразировки, дыхания, музыкального развития на уровне отдельных фраз. Она служила как сохранению текучести музыкальной ткани, так и поддержанию слушательского интереса. В основе описанного принципа работы, несомненно, лежит один из рефлексов импровизации, способ обращения с заученными мелодическими формулами-клише. Повторяемость мотива освобождает импровизатора от задачи постоянно изобретать новые мелодические обороты и концентрирует его на динамике музыкальной формы в целом. Мотив, даже основанный на «общих» формах движения, в результате повторений приобретает черты некоего характерного элемента, «микротемы», смена которой создает членение музыкальной формы. С другой стороны, настойчивое, суггестивное повторение одного рисунка (особенно ритмического) создает мощный энергетический заряд, и именно на подобных участках поступательное движение музыки наиболее активно. Если в интабуляциях и мелодических диминуциях описанный прием используется скорее эпизодически, в инструментальных вариациях XVI–XVII вв. он часто является основным способом музыкального развития: как правило, каждая вариация основана на разработке одного ритмомелодического рисунка.
Независимые от структуры оригинала мотивные разработки можно объяснить еще одним фактором скорее музыкально-психологического характера. Орнаментировать данную мелодическую линию равномерно и «по правилам» возможно только в качестве школьного упражнения. Профессионал, импровизируя или даже сочиняя письменную диминуцию, не столько анализирует детали мелодии оригинала, сколько ведет музыкальную фразу так, как ему подсказывает его творческая интуиция. Любая фраза может начаться как «классическая» диминуция, но затем обрести собственную логику развития, которая удаляет ее от буквального следования мелодии оригинала. Опора на последний оказывается скорее подсознательной, а интуиция музыканта свободно смешивает разные формы творчества: орнаментацию данной мелодии и сочинение новой. Орнаментальные формулы вводят динамику развития, которой музыкант и следует, порой значительно удаляясь от «темы». Нам кажется, именно в этом факторе следует искать корни не только независимых мотивных разработок, но и многих «нестандартных» способов диминуирования (таких, как свободная глоса – см. ниже). На протяжении рассматриваемого периода разница между вокальной и инструментальной орнаментацией если в чем и проявляется, то скорее в степени развитости, чем в технике или стиле. По мнению большинства авторов эпохи[224], для певцов искусство орнаментации полезно, но по большому счету необязательно, и хорошим певцом может считаться и кто-то, вовсе не умеющий импровизировать. Для инструменталистов же импровизация диминуций была столь же важной составляющей профессионального мастерства, как и пальцевая техника.
Как нам представляется, у этой ситуации имеется две причины. Во-первых, голос (даже тренированный) по своей натуре технически менее подвижен, чем инструменты, и скорее утомляется. Во-вторых, несмотря на явно наблюдаемое в XVI в. сближение между певцами и инструменталистами в отношении стиля и репертуара, они все еще исторически принадлежат к разным «кастам». Первые, коль скоро озвучивают голоса полифонической композиции, являются наследниками певцов-клириков позднего Средневековья и наследуют также навыки работы с письменным композиторским текстом, требующим максимального уважения. Определенная степень импровизации не исключается в принципе, но это умение вторично по отношению к правильному чтению нот, правильной сольмизации, интонации, ритму и т.д. Напротив, методы обучения инструменталистов, хоть и включают уже обращение к полифоническому вокальному, «ученому» репертуару, восходят (в устной «цеховой» традиции, несомненно, более, чем в печатных учебниках) к исторически еще близкой практике менестрелей позднего Средневековья, с ее устной основой и акцентом на импровизации. Там, где певец «исполняет» музыку, сочиненную композитором, инструменталист часто лишь пользуется ею, в силу своих традиционных привычек, как первоосновой для импровизации. Внешним признаком позднеренессансной орнаментации, полнее всего представленной венецианскими и иными североитальянскими учебниками от Далла Казы ([I.7] Dalla Casa 1584) до Ф. Роньони ([I.7] Rognoni 1620), а также репертуаром виолы бастарды, является дальнейшее уменьшение длительностей. Не только «шестнадцатые» (semicrome), но и «тридцатьвторые» (biscrome) становятся общеупотребительными, причем этот факт невозможно полностью объяснить особенностями нотации вокальной музыки-моделей. Конечно, с одной стороны, к концу XVI в. появляются многочисленные мадригалы «di note nere» («в черных нотах»), записанные с использованием семиминим, «восьмых» и «шестнадцатых». Но с другой стороны, не они составляют основу репертуара интабуляций и диминуций, а гораздо более старые сочинения, изданные в основном примерно между 1538 («Doulce memoire» П. Сандрена) и 1566 гг. («Vestiva i colli» Палестрины). Лишь в небольшой пропорции к ним примешиваются «новейшие» мадригалы — такие как, например, ранние сочинения Л. Маренцио. Пьесы же, сочиненные после 1600г., почти не встречаются и в более поздних источниках. Мы еще обсудим эту весьма своеобразную ситуацию в Главе 3. Пока же заметим, что усилия мастеров диминуции конца века сконцентрированы не столько на создании ровной и плавной, однородной линии, сколько на показе технической виртуозности, на достижении, а затем отодвигании пределов физически возможного. Ренессансный идеал ясности и уравновешенности, своего рода «классицизм» мастеров эпохи Ортиса уходят в прошлое. Новая музыка (пусть и основанная на старых моделях) — гораздо более нервная и непредсказуемая. Это выражается не только в головокружительной быстроте пассажей, но и в подходе к форме. Если ранее диминуции распределялись в произведении более или менее равномерно, в естественной и текучей манере, мастера конца века «нагромождают на довольно простые мелодические линии до предела цветистую орнаментацию, скорость которой вселяет ужас. В то же время они оставляют больше нот, чем их предшественники, вовсе без орнаментации. Таким образом, эта новая музыка характеризуется резкими переменами в типе и скорости движения: очень медленное без перехода сменяется запредельно быстрым» ([II.10] Brown 1976/1991, p. 59). Хотя некоторые авторы эпохи (например, Бовичелли) предостерегают от такого подхода как негативно сказывающегося на естественности музыкального движения, на практике он заметен очень у многих, особенно у Далла Казы, который за серией семибревисов может без подготовки поставить пассаж в treplicate (триоли «шестнадцатыми») или quadruplicate («тридцатьвторые»). На смену собственно ренессансной эстетике приходит другая, которую мы сблизили бы с течением маньеризма в литературе и изобразительном искусстве.
Как пишет М. Букофцер, «Возрождение ценило благородные и простые чувства [passions], барокко — крайние страсти, от сильнейшего страдания до безудержной радости» ([II.6] Bukofzer 1947/1982, p.13). Маньеризм же в плане эстетики во многом является уже преддверием барокко. Собственно, среди искусствоведов нет единого мнения по поводу того, что же считать маньеризмом. Очень часто этот термин применяют к художникам (прежде всего итальянским) второй и третьей третей XVI в.: Понтормо, Пармиджанино, Брондзино и др. Подразумевает он не столько насыщенность страстями (маньеристская живопись часто довольно-таки холодна) или поиск формальной сложности, сколько акцент на преобразовании впечатлений реального мира и на стилизации (на ценности стиля, манеры) для получения произведения искусства. Сюжеты маньеристов остаются классическими, но реализм их интересует не так сильно: пропорции и позы персонажей, цвета могут удаляться от «естественных» — или ради выразительности, или даже просто в декоративных целях, чтобы подчеркнуть, что произведение искусства не есть калька действительности (см. [II.4] McCorquodale 1995, p. 226-228). В этом, по словам А. Лосева, выражается «антикласический бунт» против нормативной эстетики Высокого Возрождения, приводящий к созданию иного художественного языка — обостренно-субъективного, условного и «манерного» в своей формальной изощренности ([II.4] Лосев 1978, с. 459-460).
В поэзии и вообще в литературе маньеризм (явление несколько более позднее, чем в живописи) часто связывают с культом темного, непонятного и вычурного, то есть в конечном счете неестественного (см. об этих оценках [II.4] Чекалов 2001, с. 5). Если не уходить в область подобных негативных определений (как это делают многие исследователи XVIII–XIX вв.), он окажется опять-таки выражением необычного, искусственного в самом изначальном значении этого слова. Одним из девизов маньеризма считают «поэтику изумления» (meraviglia), характерную, например, для творчества Джамбаттисты Марини — одного из самых значительных поэтов-маньеристов (Чекалов, цит. соч.,с. 38). Тем не менее к маньеристским произведениям многие относят и «Гамлета», и «Дон Кихота» (там же, с. 6) с их неоднозначностью и психологизмом, которые были бы невозможны в рамках чисто «классического» искусства. В обоих случаях маньеризм предстает как попытка выйти за пределы ясного, очевидного, уравновешенного (а потому и несколько повседневного) в область то обостренно чувственного, то драматического, то фантастического, то трагической иронии... Однозначного применения термина «маньеризм» (сложившегося в изобразительном искусстве и в литературе) в музыке пока нет. Но оно нам кажется достаточно оправданным (во всяком случае, выходящим за рамки упражнения «по наклеиванию ярлыков») по отношению к определенным явлениям в музыкальном искусстве. Сам жанр мадригала XVI в., с его повышенной чувствительностью (и чувственностью) и избеганием слишком определенных формальных структур, многим представляется проявлением маньеризма (см.: [II.4] Sabatier 1998, p. 150-151). Но еще более маньеристским (ибо менее «естественным»), чем «обычный» мадригал Аркадельта, Вердело или Роре, выглядит мадригал конца века с его диссонансами, хроматизмами и вокальной виртуозностью (поздний Маренцио, поздний Де Верт, Джезуальдо и др.). Стиль орнаментации следует эстетическим течениям и модам так же, как и прочие области музыкального искусства. Линейной эволюции здесь нет — но ведь и в живописи, и в поэзии, и в вокальной музыке маньеристские произведения были современными другим, гораздо более «классическим» по духу. Можно расценивать как маньеризм уже стиль лютниста Альберто да Рипы, полный «странных» диссонансов (mi contra fa), уменьшенных кварт в мелодии, виртуозной и весьма нестандартной орнаментации. Все большее увлечение диминуциями во второй половине XVI в. тоже можно считать маньеристским явлением, но еще более, несомненно, — стиль диминуций конца века, начиная примерно с Эрнандо Кабесона (Кабесона-сына) в Испании и с Далла Казы — в Италии. Музыкальный идеал конца XVI – нач. XVII вв., может быть, лучше всего выражается этими диминуциями исходно безобидных шансон и мадригалов — «экзистенциалистскими», ставящими сиюминутный аффект намного впереди логики формы и всякого «разумного» начала. Характерно, что именно по отношению к этой эпохе можно говорить о намеренном сокрытии или стушевывании в обработке музыкальной формы оригинала (в то время как ранее это если и встречалось, то было скорее побочным эффектом орнаментирования). Хорошим примером служит обработка Ф. Роньони мадригала Палестрины «Vestiva i colli» («с неправильностями» — «...con diverse Inventioni, Non regolate al Canto», см. в Приложении III.2). Слышимая форма обработки есть не столько «первичная» (основанная на фразах мадригала), сколько «вторичная», образуемая сменой ритмомелодических мотивов, подверженных независимой от музыкального течения оригинала разработке. И очень часто членение этих двух форм не совпадает. Например, очень яркие контрастные моменты во «вторичной» форме создаются сменами бинарного и тернарного (триоли, секстоли) ритмического движения, которые, как правило, не совпадают с фразировкой мадригала (см. т. 27, 58, 70). Смену эстетики в конце XVI в. можно усмотреть и в таких составляющих музыкального языка, как ритм и гармония. Движение ровными длительностями в диминуциях не исчезает, но становится лишь одним из возможных типов организации. Наряду с ним появляются более индивидуализированные рисунки, среди которых особое место занимает пунктирный ритм — фигура, хорошо подходящая для создания достаточно нервной, экзальтированной атмосферы. На этом ритме основаны некоторые новые для конца XVI в. «украшения» — accento и clamatione (см. выше), но понемногу он начинает встречаться и в диминуциях. Из авторов руководств по орнаментации более всего его любит Бовичелли, чьи фигуры диминуций, рассчитанные в первую очередь на голос, не столь виртуозны на вид, как инструментальные пассажи Далла Казы или Р. Роньони, но производят впечатление живых, выразительных, полных пафоса мелодий, лишь в общих чертах следующих контуру голосов оригинала (Факсимиле 2.3). Одним из правил «классического» диминуирования было избегание «неправильных» диссонансов. Однако к концу XVI в., как представляется, все большее и большее число музыкантов испытывают вкус к диссонансам — не только к обычным задержаниям, проходящим звукам или камбиатам, но и к вариантам, запрещенным теорией, которые ранее терпелись в диминуциях лишь потому, что в быстром движении были незаметны. Отныне их стараются провести в более крупных длительностях или поставить на видное место иными способами. К примеру, Бовичелли — один из первых авторов (если не первый), использующий, выражаясь современным языком, предыкт (Факсимиле 2.3, т. 2 и 3) и долгий форшлаг, обычно оформленный в виде «неправильного» (восходящего) задержания (т. 3 второй строчки диминуции и т. 2 четвертой). Наконец, одной из существенных черт диминуций конца XVI – нач. XVII вв. является начинающееся размежевание вокального и инструментального стилей. Оно выражается, во-первых, в появлении специализированных трудов или, по крайней мере, разделов. Трактат Бовичелли ([I.7] Bovicelli 1594), хотя и не закрыт для инструменталистов, в принципе адресован певцам. Ф. Роньони ([I.7] Rognoni 1620) посвящает первую часть своего труда вокальной, вторую часть — инструментальной орнаментации. Во-вторых, сама эта специализация следует за оформлением разных стилей и разных репертуаров орнаментальных формул. Вокальная орнаментация остается главным образом поступенной и, сравнительно с инструментальной, менее виртуозной на вид (по причинам, которые мы уже обсуждали). С другой стороны, поскольку вокальное искусство изначально связано со словом и с выражением аффектов, заложенных в поэтическом тексте, эволюция вокальной орнаментации идет, в общем (не везде и не всегда с одинаковой явностью), в сторону меньшей «механичности» формул, их индивидуализации и большего наполнения «аффектом». Эта тенденция заметна уже у Бовичелли. После 1600 г. она найдет еще более полное воплощение в виртуозном стиле итальянской «монодии» (Каччини, Монтеверди и др.) и окажет немалое влияние и на инструментальную орнаментацию эпохи барокко (в частности, в скрипичной музыке). Инструментальный же стиль, хотя и усваивает по-прежнему немалое число приемов и формул вокального происхождения (accento, clamatione и даже, временами, trillo), эволюционирует в ином направлении: во-первых, в сторону еще большей виртуозности, во-вторых, — расширения тесситуры, все большей свободы использования разных регистров и их смен (думается, не последнюю роль здесь сыграло влияние стиля виолы бастарды с ее скачками от голоса к голосу). В - третьих, не отказываясь от поступенных форм движения, инструменталисты все чаще пользуются в своих диминуциях и движением скачками (особенно по звукам трезвучия, а также на октаву: см. [I.7] Rognoni 1592 и Rognoni 1620, vol. 2), более идиоматичным для инструментов, чем для голоса. Мы хотим завершить наш обзор довольно неожиданным наблюдением. Из всего сказанного до сих пор в этой главе может сложиться впечатление, что вся или почти вся музыка XVI в. орнаментировалась и что современный музыкант, желающий спеть или сыграть ее «аутентичным» образом, обязан подумать о диминуциях как о неотъемлемой части исполнения. Однако анализ свидетельств эпохи[225] показывает, что между авторами эпохи царило немногим больше согласия, чем между музыкантами наших дней, и претензии к тем, кто «злоупотреблял» диминуциями, были достаточно часты (при этом, разумеется, что считать злоупотреблением, каждый понимал по-своему). Основных претензий было две. Во-первых, звуковой хаос, возникающий от неумелого или чрезмерного украшательства, особенно в ансамблевом музицировании — Concerto(см. [I.2] Bottrigari 1594, p. 50). Здесь критика направлена, собственно, не против орнаментации, но против музыкантов, обладающих дурным вкусом (которых много во все эпохи). Вторая претензия более серьезна: орнаментация, под видом украшения (улучшения) музыкального сочинения, искажает его. В XVI в., как и в XX столетии, многие композиторы вообще предпочитали слышать свои произведения в точности как они написаны, без «добавлений»[226]. Именно это соображение побуждает некоторых теоретиков предостерегать также и против чрезмерного орнаментирования вообще — в вокальном исполнении[227] и в интабуляциях[228]. Как мы уже отмечали во Введении, эпоха Возрождения занимает в истории музыки двойственную (или, вернее, переходную) позицию в том, что касается взаимоотношений импровизации и композиции, письменного и бесписьменного, вокального и инструментального. Как ни велика по-прежнему роль импровизации, понятие письменной композиции и фигура композитора уже достаточно укоренены в сознании, и эти два полюса культуры вступают между собой во взаимодействие и, порой, в противоречие. Характерно, что наиболее острая критика, исходящая от таких уважаемых музыкантов, как, например, Жоскен Депре или Дж. Царлино, касается в первую очередь певцов, а не инструменталистов (см. Brown, op.cit., p. 105). То, что певцы должны исполнять сочинение, как оно написано, является в XVI в. уже устоявшейся традицией «ученой» музыки. Для инструменталистов же, сильнее связанных с устной традицией, нормальным подходом является импровизация орнаментальных «вариаций» на избранную «тему». Вплоть до конца XVI в. вокальная орнаментация остается более скромной, чем инструментальная, и ее расцвет в дальнейшем (собственно, уже в эпоху барокко) во многом, возможно, объясняется соперничеством с виртуозным инструментальным стилем. В Главе 4 мы покажем, что даже такой, казалось бы, инструментальный прием, как орнаментация alla bastarda, нашел отражение и в вокальной практике. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; просмотров: 214; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.226.177.223 (0.019 с.) |