
Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Коммерческое фиаско. Неудавшееся писательствоСодержание книги Поиск на нашем сайте
М.В.Имшенецкая
Забытая сказка
Маргарита Викторовна Имшенецкая (1883–1972)
От автора
Моя книга может показаться сентиментально-наивной, не соответствующей требованию времени и теперешних настроений. Но она — ни что иное как некий сколок мирной жизни благоденствующей страны. Это жизнь одной из тысячи семей, тех давно ушедших „дворянских гнезд", в моей дорогой "Боярыне России", которой больше нет. Души людей искалечены. Они русские — и не русские. Для меня это новая заграница. Рассеянная по свету русская миллионная эмиграция стареет, вымирает... А молодое поколение, воспитанное в Америке, Франции, Бельгии и по всем частям света разбросанное, по высшим ли соображениям их родителей (или кого?), за весьма малым исключением, совсем не говорят по-русски и не знают своей Православной веры. Как родители, так и дети совершенно не интересуются ни прошлым, ни настоящим, ни будущим России. Грустно, словно присутствуешь при погребении всего национального и наблюдаешь, как тяжелая дверь захлопывается за Святой Русью, отходящей в вечность. А кто может сказать, какова будет новая эпоха, которая идет, наступает не только для России, но и для всего человечества? Кто? Кто знает?
Письмо первое Нянины сказки. «Дурка»
Друг мой! Вы дали мне интересную идею, скорее, задачу, пересмотреть себя, перелистать пожелтевшие листики прошлого и вновь встретиться со всеми, кто оставил неизгладимый след на моем жизненном пути. Да не покажется Вам скучным, если начну с младенчества, с момента сознательного восприятия событий и всего окружающего. Не было ничего особенно яркого в моем детстве, все же некоторые эпизоды живы в моей памяти и ближе познакомят Вас со мной, да и Вам напомнят Ваши. * * * Помню себя отчетливо и ясно с четырех лет. Помню мою большую комнату во втором этаже нашего уютного особняка в большом губернском городе, в средней полосе России. Помню маленькие стулья, креслица, столик, маленький гардероб, комодик и две всегда белые-белые кровати: моя — маленькая, большая — няни Карповны. И прожила я в этой комнате до двадцати двух лет. Менялись обои. Менялась мебель. Стриженые волосы ребенка выросли в толстую косу. Коса сменилась пышной прической. Потехи детства, весну юности, девичьи грезы, радость и острое горе и по сию пору хранит в моей памяти эта чудесная комната с большими окнами в сад. А еще помню до мелочей мою няню Карповну. Помню ее блестящие глаза, подвижное лицо и волшебный голос талантливого актера-рассказчика, который уводил меня в мир феерических, грандиозных постановок, поражал богатством фабулы и не скупился на количество действующих лиц. Она первая открыла мне уголок, если можно так выразиться, уголок, где живет в нас творчество, искусство создавать и воспринимать. Няня Карповна осталась, врезалась в память и стоит до сих пор передо мною, как живая. Она была грамотна, но никогда ничего не читала мне по книжке. Прочтет, бывало, про себя — и ну рассказывать. Когда мне было пять лет, и я уже хорошо сама читала, то, прочитав „Красную Шапочку", я не нашла в ней двух услужливых белочек, которые несли корзинку Красной Шапочки, в то время, когда она собирала цветы для бабушки. Не было и лисички-сестрички, которая, после разных ухищрений, выманила у Красной Шапочки яблочко. Не пересек дорожку деловито и косолапый Мишка, не прибежали еж с крысятами собирать все рассыпавшееся из опрокинутой корзины испугавшейся медведя Красной Шапочки и т.д. Книжка показалась тощей, не пол ной, словно половина страниц вырвана. Большинство сказок няни Карповны в книжках не было, а те, которые были, то только что-то напоминали. Чего бы ни коснулась моя талантливая рассказчица, она мастерски рисовала ребенку происходящее и властно вела за собой. У нее не было мертвых слов. Все ярко жило, казалось действительностью. Она заставляла Вас участвовать, присутствовать и переживать. Вот, например, ее описание в сказке „Иван Царевич и Серый Волк" бури, которой в книжке нет. «И послал злой колдун вдогонку беглецам бурю. Бежит, торопится первый гонец, небольшой ветерок, листики собирает, вперед себя посылает. Второй, посильнее, в кучки, в столбики, а третий, самый свирепый, как свистнет, как завоет, да все листики с пылью, с сосновыми иголочками кверху воронкой по всему лесу распушит, закрутит завирухою, ну и пошла потеха. Тоненькие березки, молодяжник, к земле клонятся, листики трепещут, обрываются, от родимого деревца уносятся. Осина стонет, поскрипывает, ей всегда тяжко — Иудой опоганена. Загудели, зашумели сосны старые. Травушка низко ковром стелется. И завыло лесное зверье, заметалося, берлог своих найти не могут. Кружатся, мечутся пичуги большие и малые, растеряли свои гнездышки. Обломали крылышки, замертво на землю падают, около деток, насмерть разбившихся. А ветер шнырит, подхлестывает, во все щелочки залезает, сосновые шапки друг о друга стукает. По лесу гул идет, а нечисть хохочет, улюлюкает. Раскололась старая сосна, преградила путь. Замертво пал конь, царевна на земле очутилась..." и т.д. Любила Карповна трагические места, рискованные положения, безвыходность. Еще расскажу Вам одну сказку, последнюю, мою любимую, про Заморскую Царевну, писаную красавицу, которую выкрал из-под самого венца с Иваном Царевичем Змей Горыныч и умчал ее в свой замок, в дремучий лес, и не было к нему ни дорожки, ни тропиночки. У Карповны, бывало, что и Злой Колдун или какое-нибудь чудовище вдруг проникалось нежным чувством, могло любить, могло страдать, так и тут. „Часами стоял Змей Горыныч за деревом, любовался Заморской Царевной, показаться не смел, своим видом испугать боялся. Но, ни волшебный сад с фруктами заморскими, с цветами диковинными, птицами певчими, ни два лебедя, что в золотой лодочке Заморскую Царевну по зеркальному голубому озеру катали, ни ларчик с каменьями самоцветными, не тешили, не занимали красавицу. Слезинки на длинных ресницах повисали, не просыхали. Страдал и Змей Горыныч по-своему, по-звериному: потрясал леса и горы, из пасти — дым, огонь и сера горючая, солнышко закрывали, белый день в ночь обращали" и т.д. Сказка была длинная. Но дело было в том, что Карповна иногда вдруг неожиданно переделывала конец или вводила что-либо новое. Ей не раз хотелось обратить Змей Горыныча в добра молодца и женить его на Заморской Царевне, чему я противилась до слез, требовала верности и любви к Ивану Царевичу. И каждый раз у меня сильно билось сердце, когда в последней схватке соперников Иван Царевич повисал на тонком бревнышке над пропастью, в которую уронил ковер-самолет. „Гнется бревнышко, потрескивает, вот-вот обломится, на одной руке повис Иван Царевич, а другой силится из-за пазухи шапку-невидимку достать..." К счастью, все кончалось благополучно. Засыпая, я всегда спрашивала: — Няня, когда я вырасту, буду я Заморской Царевной и писаной красавицей? На что я всегда получала один и тот же ответ: — Не иначе. А после некоторой паузы добавляла голосом, который мне не нравился: — Если слушаться будешь. Между прочим, „писаная красавица" и „писаный красавец" были мне, конечно, непонятны, но слова эти производили впечатление чего-то обязательного, неотъемлемого, без чего Заморская Царевна была бы не Заморской и не Царевной, и не красавицей. Остались в памяти еще сироты Ваня с Машей. Выгнала их мачеха за милостыней в холод, в непогодь осеннюю. Хлестал дождь и попадал за шиворот не только детям, но и у меня тек по спине, мне было горько, и холодно, и голодно. Не одни сказки рассказывала Карповна, говорила и о жизни деревни, о странничках, о Святых местах, о чудесах. Рассказывала Карповна и про Святой Град Китеж, стараясь сделать эту легенду понятной для пятилетнего ребенка. Рассказывала особенно, проникновенно, устремив глаза в окно, на небеса, и меня увлекала тоже смотреть туда же, словно там, на небесах, у Бога, и находился этот Святой Град Китеж. —- Эх, дитятко, — начинала она, всегда тяжело вздыхая, — ты, Танюша, еще махонькая, где тебе знать, ведать горе-горькое, кручину, что сушит. Слушай же. Запамятовали люди, когда эта напасть приключилась. Только ни нас с тобой, ни папеньки, ни маменьки, даже деда с бабинькой еще на свете не было. Вишь, как давно это было. Ну, слушай далее. Налетела, набежала туча черная, туча страшная, с громом, молнией, силы неслыханной. Задрожала земля от топота конского. Загудели, закаркали, словно вороны, орды татарские, басурманские, некрещеные, со всех концов света белого слеталися, на Русь Святую толпищами несметными устремлялися. Тут няня почему-то останавливалась, задумывалась. — Ну, няня, дальше, дальше, что же ты? — тормошила я ее. Карповна, глубоко вздохнув, продолжала: За грехи неотмолимые, за тяжкие, видать. Бога забыли, и послал Он на них саранчу-татарву лютую, чтобы образумились, покаялись. И полилась кровушка народа русского, и татарвы немало полегло. Защищались наши до последнего. Спокон веку храбрость молодецкую и удаль по сию пору прославили. Только где же было устоять против врага лютого. Врага страшного, не крещеного. Ах, батюшки! — и опять, вздохнув, продолжала: — И наших много полегло. Царство Небесное, прощение получили, смертушкой лютой очистились. Косили наших, что травушку, по ночам небо полыхало от пожарища, что красна медь. Ох, тяжкое, страшное времечко накатилось на Крещеную. А баб, да девок в полон силой забирали... и... и... что было! Что тут говорить, мало кто уцелел, буйну голову сберег. Только докатилась татарва до толстых стен Святого града Китежа. По те времена и пищалей то не было, не то, что теперь. Камень в ходу был, смола горючая, да стрела, змеиным ядом отравленная. Долго Святой Град держался, отбивался, храбрости и смелости бойцы были несбыточной, во главе с благоверным князем ихним, имечко его запамятовала. Тут татарва их голодом доняла. Ребятишки и старцы с голоду мерли, да и бойцы ослабели. Зашатались стены Святого Китежа, вот-вот упадут, и ворвутся нехристи, всех с лица земли изотрут. Приказал князь всем, кто жив остался, и стар и млад в храме Господнем укрыться, затвориться, заупокойную последнюю молитву сотворить. Жарко, горячо молились люди, и великое чудо совершилось! Ушел град с церквами, с людьми, как был, под землю, а сверху, словно крышечкой, озеро Светояр покрыло, — няня опять умолкла. — Дальше, няня, дальше, — нетерпеливо торопила я. И каждый год в этот день, в этот час, — голос Карповны звучал благоговейно, — виден город этот, слышен звон колокольный, пение райское святых псалмов благодарственных. Крестный ход идет-продвигается, у каждого свечечки блестят, переливаются каменьями самоцветными, и все славят Господа, — тут няня умолкла. — А мы с тобой, няня, могли бы видеть Святой Китеж? Няня качала головой. Нет, Танюша, нет, родная, его могут видеть только святые, они знают, где он находится, а вся земля грешная увидит только тогда, когда Правда Божия на земле жить в покое будет, и люди научатся не оскорблять Господа. Не одна слеза скатывалась по лицу Карповны. И мне всегда казалось, что она видела, переживала сказание о граде Китеже „взаправдашно". Очутись Карповна на подмостках сцены, быть бы ей большой артисткой. В доме все ее любили, со всеми она ладила, со всеми в приятельских отношениях была, за исключением моего мил дружка бульдога Сэра. Не могу удержаться, чтобы не рассказать про его проказы. Этот умный пес прекрасно учитывал ее нелюбовь, и когда няня почему-либо задерживалась внизу, он ураганом врывался в мою комнату, и начиналась, как няня говорила, дурка. Но сегодня, сегодня он превзошел самого себя. Мало того, что Сэр прыгал по стульям, столу, и кувыркался на ковре, он дерзко заскакивал на комодик, на белоснежные кровати, причем уронил на пол с кровати няни ее любимую маленькую подушечку-думку. Все, что было на полу, как тряпка, бумажка, Сэр считал своей собственностью. Не прошло и минуты, как пух из подушечки покрыл пол, мебель, морду Сэра и опушил мои волосы. Но самое интересное, пух летал по комнате, как хлопья снега, мы дико веселились. — Ах, вражья сила, варнак курносый. На этот раз окрик Карповны был грозен. Сэра ветром вымело. Няня походила на ту самую бабу ягу, которая собиралась варить или жарить, точно не помню, непослушных детей. — Ну, матушка, полижешь у бесов горячие сковородки на том свете... Полижешь... И раньше не раз это от нее слышала, но сейчас я почувствовала, что это серьезно, и чаша терпения няни переполнилась. Бесы имели, со слов Карповны, рога, длинный хвост, были сплошь волосатые и черные, как ночь. И если я спрашивала ее, когда это будет, вернее, когда я буду на том свете, отвечала до вольно непонятно: — Когда положено, тогда и будешь. И „бес" и „тот свет" в то время для меня были понятия расплывчатые, а вот приобрести сковородку стало необходимостью. Приучить себя лизать ее сейчас, заранее, казалось выходом из положения. Это был первый урок, первый опыт в проявлении нашей человеческой собственной свободной воли. Для приобретения вещей незаконным путем пришлось проявить все необходимые качества и изощрения в искусстве вранья. Из кухни была украдена маленькая сковородка, а позднее — огарок свечи. В свою защиту скажу, что когда я брала вещи без спроса, то испытывала некоторую борьбу с внутренним каким-то протестующим чувством. Относительно сковородки я успокоилась, что положу ее обратно, а относительно свечки совсем не беспокоилась. По тем временам я имела на это свой собственный взгляд. Что такое свечка? Ее не едят, и ни к чему ее не приложишь. Она даже не вещь. И все равно, сгорит и только. А потому я считала, что свечка, вещь все равно исчезающая бесследно, вовсе к воровству не относится. Собственно говоря, „воровство" как таковое, в полном смысле этого слова, я еще не понимала, но хитростью, изворотливостью и искусством врать уже обладала. Я начала лизать сковородку, но она была холодная, а няня говорила, что на том свете лижут горячие. Значит, она должна быть горяча, как иногда бывают горячи суп или каша. Начала ее прикладывать к изразцовой горячей печке (дело было зимой). Все эксперименты лизания я проделывала поздно вечером, когда няня, уверенная что я заснула, уходила вниз ужинать. Сковородка, нагретая у печки, была довольно теплая, но всё же не горяча. А вот сегодня, нагрев ее на свечке, я добилась блестящих результатов, правда, закончившихся не только печально, но и катастрофически, с весьма тяжелыми последствиями. Смело приложив весь язык к действительно горячей сковородке, я почувствовала, что он вроде как бы прилип к ней. Страшные колики под мышками, и из глаз что-то посыпалось. Я отдернула язык. Но, будучи от природы настойчивой, храброй, я начала осторожно лизать кончиком языка сковородку, также как Сэр пил воду. Но после нескольких лизков решила, что на сегодня довольно. Язык распух и все больше и больше не помещался во рту. Слезы из глаз не капали, а лились. Зарывшись с головой в подушки, я уже не всхлипывала, а выла от ужасной боли во рту. В эту самую минуту в комнату вошел доктор, Николай Николаевич. О нем очень много будет сказано в свое время. Доктор вытащил меня из кроватки и поднес к лампе: — Что случилось? В чем дело? Я высунула язык и глазами показала на сковородку, говорить не могла. — Язык спален... пузыри... Каким образом? Николай Николаевич поднял весь дом на ноги. Послали в аптеку, а пока в кухне терли сырой картофель, который он собственноручно прикладывал к моему языку, меняя его ежеминутно. Родителей в этот вечер не было дома. — Ты что же, старая, не доглядела? Ничего понять не могу. Бедная, любимая моя няня поняла, в чем было дело: — Вишь, горячая голова, по взаправдашнему приняла, — и рассказала Николаю Николаевичу о последней истории с подушкой и как пригрозила мне муками ада. — Вишь, горячая голова, упредить задумала... и сковородку и огарок добыла, — закончила няня. С тех пор, чуть ли не до девичества, за мной было прозвище „горячая голова". Как долго возился со мною Николай Николаевич, не помню, только няня сказала, что до самого утра он просидел в кресле около моей кроватки. Утром он, конечно, удивил моих родителей своим ранним посещением, так как бывал у нас только вечерами, рано или поздно, но неукоснительно каждый день. Итак, мой язык был спасен. Еще небольшой случай последовал вскоре за сковородкой. Дело было перед Рождеством. В доме все были заняты, даже няня. Мы с Сэром были предоставлены самим себе, в таких случаях мы делали то, что не поощрялось, проникали в те уголки дома, и которые не разрешалось. Давно нам хотелось исследовать нижнюю часть дома. Там мы еще не были, но о ней слышали, и особенно нас привлекала так называемая «холодная кладовая". Мама часто говорила горничной Маше или няне Карповне: „Сходи-ка в холодную кладовую и принеси варенье , или фрукты, или вина и в этом роде... Холодная кладовая где-то далеко,— внизу дома. Воображение рисовало ее обязательно мрачным жилищем ведьмы, у которой черный кот и сова. Было страшно и очень холодно, когда мы очутилась в темном коридоре, в самом нижнем помещении нашего дома. Я крепко держалась за ошейник Сэра. Осмотревшись, мы двинулись к концу коридора, откуда из щели лился слабоватый свет. Дверь оказалась незапертой. Мы вошли в довольно большую комнату, освещенную с потолка маленькой электрической лампочкой, которая после темноты показалась солнцем. Страх сразу прошел. Наше внимание привлекла большая глиняная чашка на столе со взбитыми желтками; около стоял стеклянный кувшин с белка ми и ведерко с разбитыми яичными скорлупками. Почему-то все это ярко запомнилось. Ложки не оказалось. Черпать было нечем. Погрузив палец в желтую массу, попробовав, мы с Сэром убедились, что это настоящий гоголь-моголь, который мы оба обожали больше всего на свете. Лизали мой палец по очереди: сначала я, а потом Сэр. Он стоял около меня на задних лапках, взвизгивал, когда наступала его очередь, и пускал длинную слюну, когда была моя, следя за мной беспокойными глазами. Окунать один палец показалось долго и мало, всей пятерней куда лучше. Я слизывала с ладони, а Сэр обратную сторону моей руки. Когда мои глаза нечаянно обнаружили икону, я как-то застыдилась. Няня всегда говорила: «Бог все видит». А я-то думала, что мы одни. На полу лежала бумажка. Я намазала ее гоголь— моголем, икона висела невысоко, и залепила лик Святого. Когда Сэр облизывал мою руку, дверь открылась, и вошла няня. — Мать честная... Батюшки... Да что же это? Сэр тотчас исчез. — Да ты-то понимаешь, что ты наделала? Ведь я только что двести желтков для теста стерла, а ты их псиной опоганила. Вот подожди, на том свете... — Но няня не кончила, очевидно, вспомнила историю со сковородкой и сердито добавила: — Бесстыдница, не думай, Бог все видит. — Ничего Он не видел, — ответила я, указав ей на залепленную икону. Тут уж трудно описать, что произошло с моей дорогой няней. Она бросилась к иконе, сняла ее, схватила меня, и мы со скоростью вихря очутились на втором этаже в моей комнате. Руки няни тряслись, зубы стучали, губы шептали непонятное. Глаза были полны слез. Быстро переодев и вымыв меня, набожно перекрестившись, омыла икону, поставила на комод и повалилась перед ней на колени. — Господи! — воскликнула она, — спаси, заступи, помилуй дитя малое, дитя неразумное. Завернув икону в чистое полотенце, спрятала в комод. По щекам ее текли обильные слезы. Няня плакала. Я первый раз видела ее такой. Повиснув у нее на шее, я целовала ее морщинистое лицо и прижималась к ней своей мокрой от слез щекой. Этот случай вызвал в моей детской голове, если не процесс обдумывания и анализа, но всё же заставил память сохранить его, и что-то запретно-необыденное запало от смысла слов няни. — Нет в тебе страха Божия. Горе мне бесталанной, не сумела обучить. Няня долго сокрушалась о моем великом грехе. Икону она унесла в церковь, чтобы вновь освятили. Об этом случае, кроме меня и няни, никто ничего не узнал. Как бы я ни напроказничала, няня никогда не жаловалась моим родителям. Много лет спустя я опять очутилась в холодной кладовой и тотчас вспомнила все. А теперь мне бы очень хотелось спросить тебя, мою дорогую старушку, мою няню, как ты поступила с опоганенными псиной желтками? Успела ли стереть новые? Или с этими опоганенными был рождественский крендель в этот год? Но это все давно ушедшее молчит. За последнее время няня стала часто прихварывать, и Николай Николаевич посоветовал моим родителям отправить ее на покой, так как справляться с „горячей головой" ей было уже не под силу. Жила няня остаток своей жизни, как сама говорила, „в большой холе", благодаря щедрой пенсии моего отца. Была всегда желанной гостьей, в особенности в Сочельник под Рождество. И в сумерки до самого Крещения у зажженной елочки, при мерцании разноцветных наших русских свечечек плела Карповна свои неистощимые кружева-рассказы. Хороши были и ее деревенские гостинцы: печеная репа, лук и толстые ржаные пирожки с картошкой. Тогда я недоумевала, почему такие деликатесы не были в меню нашего стола? Мне было около шести, когда она умерла. Это было мое первое детское горе. Мир твоей душе, моя дорогая няня, моя волшебница!
Письмо второе
Я была единственным ребенком в нашей семье, и мои родители очень меня любили, но не баловали. В доме была заведена дисциплина, иногда и военного характера. Пробудившаяся собственная свободная воля, чрезмерная храбрость и другие доблестные качества не давали мне покоя и не всегда приводили к благоприятным результатам. Мне было около пяти лет. История со сковородкой была забыта, но из всех последующих приключений я опишу только последние, которые оставили у меня в детстве горький след. С девочками я не ладила. Часами сидеть, одевать, раздевать и укладывать спать кукол, или играть в маму, у которой очень много детей, я не могла. Кукол вообще ненавидела, это были безжизненные истуканы, за которых нужно было говорить, пищать и присюсюкивать. С мальчиками было гораздо веселее, и масса движения. Играть в разбойники, лошадки, в поезда. И самое интересное — это игра в путешествия. Когда фигурировали стулья, мы ехали на перекладных. Когда ковер изображал корабль, а паркет — море, то мы плыли на остров Борнео. На пути мы преследовались пиратами, и они крали с корабля женщин. Так как я была единственной женщиной, то самые маленькие мальчики дополняли недочет, правда, после долгих споров. В играх мальчиков всегда было что-то новое, интересное, неведомое. Мои товарищи были старше меня, и их головами в то время владел Майн Рид. С блестящими глазами, брызжа слюной, неистово перебивая, стараясь перекричать друг друга, толкаясь, они развертывали предо мною захватывающую картину охоты за черепами. Но за неимением в нашем городе джунглей, крокодилов, стада слонов и удавов, мы пришли к немедленному решению выехать в Америку, при соблюдении полной тайны. Мальчики заявили мне, что все приготовления к поездке они берут на себя, а я должна быть готова к отъезду и ждать сигнала. Но, увы, вместо Америки я неожиданно вместе с родителями уехала в Москву на довольно продолжительное время. Позднее я узнала, что мальчики осуществили свою идею, но их сняли с поезда на первой же остановке от нашего города. Все испортил, как они потом мне говорили, шестилетний братишка, поднявший в поезде рев с причитанием: „Не хочу в Америку, хочу к маме". После всего случившегося с ними, они стали редкими гостями в нашем доме. У меня остался единственный верный друг-единомышленник по шумихе и дурке, как говорила моя дорогая няня Карповна, это бульдог Сэр, о котором я уже упоминала в первом письме. Он же был „моя первая лошадь". Пес он был умный, а к тому же лов кий акробат. Ему ничего не стоило вскочить на спинку стула и, не теряя равновесия, замереть в таком положении довольно долго, непринужденно ходить на задних лапках и даже танцевать недурно вальс. Но он это не очень любил. Подавать моему отцу туфли и газету входило в его ежедневные обязанности. Был страшная сластена, а я нет, а потому отдавала ему все свои сладости. Каждый день, после обеда, Сэр являлся ко мне наверх со своей маленькой деревянной чашкой. Держал ее зубами, становясь на задние лапы, и жалобил меня своими умными глазами, как только мог. Я клала в чашку кусочек вкуснятины, он ставил ее на пол, съедал и вновь клянчил. Эта комедия повторялась до тех пор, пока я не говорила: „Больше нет". Для Сэра была заказана специальная сбруя и маленькие саночки, он катал меня в соседнем парке в сопровождении отца, матери или бонны. Таким образом, он был моей первой „лошадью". Ему не позволялось резвиться, и катанье заключалось в скучном размеренном шаге. Сэр понимал вожжи и поворачивал налево и направо. Как его, так и меня это не удовлетворяло, нам хотелось свободы действий, быстроты движений и проявления собственных желаний. Для исполнения этого мобилизовались хитрости военная, дипломатическая, женская и все остальные. Нужно было еще выкрасть мою шубку, варежки, меховые ботики и шапку, захватить сбрую, выпустить Сэра, но самое трудное проскользнуть незаметно самой. Запрягать я умела и делала это всегда сама, а потому нашему дворнику в это утро в голову не пришло заподозрить что-либо неладное. Наконец волшебная идея осуществилась. Время было выбрано утреннее, до завтрака — в доме все были очень заняты. Сэр почувствовал свободу и как бы понял мое желание прокатиться по собственному вкусу. Он бежал мелкой рысцой. Был дивный, радостный, солнечный день. За ночь выпавший пуховый снежок горел и искрился на солнце. Было очень рано, в парке никого не было. На одном из поворотов саночки закатились, и я выпала в снег, Сэр, умница, остановился и начал лизать мне лицо. Вскоре мы двинулись дальше. Боже, как было весело! Нет, этого мало, это была радость многозвучная, на все голоса распевающая. И тогда, будучи ребенком, я поняла чувство полной свободы, поняла и, как сказала бы теперь, что это вино и „вино пьяное". Мы продолжали веселиться, но на одном из поворотов встретили врага. Правда, небольшого роста, но удивительно несимпатичного пса, он, оскалив зубы, ощетинившись, вкрадчивыми, медленными шагами, как бы засучив рукава по локоть и сжав кулаки, приближался к нам. Больше я не помню, что и как. Но начало драки произошло на моих коленях. Меня принес домой наш сосед. Вот, что он сказал матери: — Совершая утреннюю прогулку, я услышал детский крик, грызню собак и, поспешив на помощь, увидел Вашу дочурку, Таню. Последствия катания оказались плачевными: шубка моя была разорвана в клочья, от сбруи Сэра ничего не осталось. Девочка я была довольно смелая, испуг прошел быстро, а любовь к свободе сделалась основным фундаментом моего характера. За побег из дома, за кражу, хотя и собственных вещей, после очень длительного внушения, я простояла на „гауптвахте" с маленьким ружьем в руках, наверное, с полчаса. Эти полчаса показались мне вечностью. А Сэр получил выговор за драку, ползал на животе у ног отца, прятал морду, щурил глаза и чувствовал себя преступником. Новая сбруя для Сэра не была заказана. Я окончательно лишилась своего выезда и поездок с моим собачьим другом, о чем сильно горевала. Возможно, что этот случай Вам покажется мало интересным, но у меня, шестилетней девочки, сохранилось первое впечатление и очарование от пения, от обаятельного контральто (так говорили взрослые). которым обладала наша домашняя швея, она же исполняла и обязанности экономки. Как сейчас помню, звали ее Катериной. В свободный день бонны, если совпадало, что и родителей дома не было. Катерина была моей няней. И весь вечер она пела мне „господские романсы". Не важно, что пела Катерина, важно, как она пела. Из них особенно запомнился ее любимый: Страстью жгучею пылая И любовию горя, Я люблю Вас, дева рая, С половины января. Вы ж мой взор не замечали, Были холодны, как сталь, И меня, увы, терзали Весь, красавица, февраль.
Слова всех двенадцати месяцев не помню. Только последние ноябрь и декабрь о разбитой и поруганной любви, были так трагичны, так жалостливы, что и я, и Катерина сильно плакали, долго сморкались и даже икали, так как драма и рев начинались уже с октября. Пела Катерина и другие романсы с малопонятными словами, или скорее, смыслом их этих слов для меня в то время. А самым замечательным было ее исполнение, как она называла, «цыганьей песни»: ну, этого не передашь. Нужно было видеть и слышать саму Катерину. При исполнении этой песни она совершенно преображалась: водила страшно глазами, подмигивала, подбоченившись щурилась, вызывающе закидывала голову, поводила плечами, тряслась ухарски, вскрикивала и бешено кружилась. Все это было необыкновенным, выше моего понимания, казалось таинственным кладезем искусства. Однажды мне захотелось изобразить Катерину в «цыганьей песне». Очевидно, я была в ударе и так вошла в эту роль, что перестала замечать окружающее, в дикой пляске замерла я перед отцом и матерью, которые, наверное, давно за мной наблюдали в дверях моей комнаты. Как вы думаете, чем все это кончилось? Мой серьезный отец так смеялся, что ему пришлось принести стакан воды. — Что это за дикий танец, который ты пела и танцевала? — спросил он меня. — Цыганья песня. После этого Катерина никогда не оставалась со мною. Большая брешь образовалась в моей детской душе. Я тосковала по песне, по голосу Катерины, по удали, по раздолью, по непонятным заколдованным словам искаженных романсов. Мне было уже семь лет, когда на одной из Рождественских елок малыш не старше меня, важно заявил, что он получает ежемесячно по три рубля на собственные расходы. Три рубля меня не поразили, но «собственные расходы» — озадачили. — Я тоже, — бросила я ему небрежно. Слова «собственные расходы» нарушили покой. На другой день, явившись в кабинет отца, я попросила выдавать мне ежемесячно три рубля на собственные расходы. Не помню, чтобы мой отец когда-нибудь кричал, сердился, возмущался, я его совершенно не боялась, но в таких случаях, как сегодня, его прекрасные серо-голубые глаза оглядывали меня, как незнакомку и проникали так глубоко в мою душу, что я пожалела, что пришла, и просимое казалось ненужным. — Хорошо, — наконец сказал отец, — вот тебе записка, мама завтра выдаст тебе три рубля. Записка гласила: «Выдать завтра Тане три рубля». И каждый раз, когда я приходила к матери с этой запиской, я получала один и тот же ответ: — Приходи завтра. Много прошло „завтра", я прекратила свои хождения с запиской. Ничего не спрашивала. Родители также хранили молчание. Мне представляется и сейчас, что три рубля на собственные расходы были для меня непонятны при укладе жизни того времени. Мы, дети зажиточных родителей, ни в чем никогда не нуждались, в денежных приходах и расходах никакого участия не принимали, и получи я эти три рубля сразу, я уверена, что не знала бы, что с ними делать. Но какие-то связанные с ними „собственные расходы», лукавый огонек в глазах моей матери, ее тон: „приходи завтра", каверзный смысл записки, породили во мне бунтарство и протест. Не думая о том, хорошо это или плохо, я слово «завтра» перечеркнула, и собственноручно заменила его словом «сегодня». Вечером того же дня отец сказал мне: — Отлично, теперь напиши мне реестр твоих расходов. Слово «реестр» показалось мне новым осложнением, новой неприятностью, я отказалась от трех рублей. На это мне отец ничего не сказал. Через полгода или позднее, мне стали выдавать на собственные расходы, так было сказано, один рубль в месяц, без всяких разъяснений. Но скоро выдача этого рубля была прекращена из-за неудачного его применения. Но об этом в следующем письме. Какую-то задачу, которую дал мне отец, я должна была решить, очевидно, самостоятельно. Когда мне было лет шестнадцать-семнадцать, отец был моим первым другом, и я могла говорить как равная с равным и спрашивать его обо всем, этот случай, к сожалению, выпал у меня из памяти тогда, и чего хотел отец от меня, от семилетней девочки, я так и не узнала. Возможно, ему было неприятно соприкосновение еще детской души с деньгами и с прочими атрибутами материализма, но, повторяю, что это осталось загадкой. Письмо третье
Восьмой год моей жизни был довольно бурный. Избыток энергии, предприимчивость, нелепые фантазии с проведением их в жизнь встретили много препятствий и затруднений. Все ниже перечисленное случилось быстро, одно за другим, что сгустило неприятную атмосферу вокруг моей особы. Первое — это полное фиаско в моем коммерческом предприятии, второе — провал как писательницы-драматурга и третье — обнаружились способности, не соответствующие возрасту восьмилетней девочки. Итак, первое. Можно ли было это назвать коммерческим предприятием? Скорее это была наблюдательность с неумелым воплощением желания оказать помощь своим ближним. Видите ли, в доме у матери, а чаще у прислуги, не было вот сейчас, сию минуту, толстой иглы и нитки зашить фарш, чтобы не выпал у индюшки или у гуся. Или, наоборот, очень-очень тоненькой иголочки и ниточки подштопать кружево на тонком ажурном платочке. Другой раз во всем доме, как говорила наша горничная Маша, не сыщешь английской булавки, шпилек, кнопок, крючков и тех будто бы ничтожных, но крайне необходимых вещей, которые всегда все забывают вовремя купить. Я решила все это приобрести, получая от родителей рубль в месяц. За помощью мне пришлось обратиться к горничной Маше, которая меня очень любила и принимала участие в моих фантазиях. Ей пришлось все купить одной, так как я выходила на прогулки с мадемуазель, матерью или отцом, а такого рода закупки требовали бы разъяснений. Когда лавка, если можно ее так назвать, была готова, я всем дома заявила, что, когда у них чего-нибудь не хватает, то обращались бы ко мне. По настоянию Маши в лавке были даже все туалетные принадлежности. Ей очень попадало, когда она зазевывалась и вовремя их не покупала. Для мадемуазель были золотые, конечно, не настоящие, шпильки-невидимки, их она всегда теряла и весьма расстраивалась, так как ее чрезмерно взбитый, как сливки, кок, поддерживался только ими. Меня подмывало иметь табак, именно того сорта, который любил отец, но он оказался очень дорогим и продавался не меньше фунта, и мне что-то внутреннее предостерегающе говорило, что лучше не надо. Для нашего доктора Николая Николаевича не могла ничего придумать и решила, что у него острой нужды ни в чем и не бывает. Мать встретила мое новое предприятие молчанием. Француженка веселилась, а Маша чувствовала себя компаньонкой нашего общего предприятия. Отца не было дома, он только что уехал на две недели, столько же времени процветала и лавка. Не понимая тогда, в чем собственно состоит коммерческое предприятие, я брала за нитки и иголки и все остальное столько, сколько дадут, но в то же время я испытывала страшную неловкость, когда я брала деньги. А почему, правда, нельзя дать так; без денег, думала я. Но Маша говорила, что без какого-то барыша, лавка существовать не может Я была рада и счастлива, что могу быть полезной в нужную минуту. По приезде отца, рубль в месяц на собственные расходы был прекращен. По глазам отца я видела, что ему моя идея не понравилась, он недоволен мной. Лавка молча захирела, я просто раздала ее, о чем горевала Маша. Мой мудрый отец, к сожалению, тогда в этом не разобрался. А в моей детской душе появилась обида на взрослых, они не поняли моего искреннего желания быть полезной. За этим последовала новая неудача: в проявлении моих литературных талантов. Я и мои приятели мальчики настолько подросли, что игры в путешествия, разбойники и в этом роде, были заменены „спектаклями", так мы громко называли те живые картины и маленькие детские пьески, которые усиленно готовились к Рождеству и Пасхе. Мне шили специальные костюмы: снегурочки, красной шапочки, или из сказки «Спящая царевна и семь гномов». Но и это все стало мне казаться, как говорила няня Карповна, «невзаправдашним», как-то не увлекало, видимо, детство и сказочки отходили. Мне хотелось чего-то большего, широты, размаха, я почувствовала в себе писателя и решила написать не что иное, как драму под названием «Двоеженец». Конечно, и тут не обошлось без Маши. Надо вам сказать, что девица она была образованная, всегда с книжкой. Елизавета Николаевна (о ней расскажу в свое время), найдя, бывало, притаившуюся Машу в гостиной или зале, обыкновенно говорила: — Ну-ка, Машенька, дай-ка книжечку, без нее скорее приберешься. Часто с глазами, полными слез, Маша мне говорила. «Ах, барышня, если 6 вы только знали, какая это драматическая драма» или «какой это романический роман». Одним из этих «романических романов» я и воспользовалась. Пьеса была написана, и я заявила матери, не без гордости, что на это Рождество будет поставлена «драматическая драма» моего сочинения: «Двоеженец», и мне необходимы платье и шляпа кокотки, так как главную роль исполняю я. — Ты мне дашь их, мама? — спросила я еще раз. Ни отец, ни мать никогда не говорили сразу ни „да", ни „нет". Мать взяла у меня мою рукопись: — Хорошо, — сказала она, — я прочту. Очевидно, сюжет подходил к названию драмы, на другой день она мне сказала: — Ты, наверно, хочешь, чтобы папа привез тебе новую маму? Кроме того, мать очень жалобно описала мне роль падчерицы и суровой мачехи. Я была потрясена. Потоки моих слез долго невозможно было осушить. Я дала слово, что не буду больше писать драматических драм. Вы, конечно, шокированы, благовоспитанная девочка из дворянской семьи, охраняемая от всяких настроений и дуновений, и такие, можно сказать, и сюжет, и выражения, и в таком возрасте! Могу Вас уверить, во всем виновата моя никогда не спящая жажда знаний и стремление к великим достижениям. Но самое главное, что книга в то время, какая бы ни была, являлась предметом притяжения. Книги же Маши (которые читались тайно) были из совершенно другого мира, представлялись загадочными, таинственными, смысл их был недоступен, а новые, никогда ранее не встречавшиеся слова очень беспокоили мою любознательность. Что сюжет был заимствован, списан из «романического романа», в этом нельзя сомневаться. Не помню, с какого времени, по собственной инициативе, я завела особую тетрадку для записи непонятных слов и фраз с рубрикой „Собственные пометки и объяснения". Впоследствии вы еще не раз встретитесь с этой тетрадкой и со всеми ее неожиданными выражениями и словами, несвоевременно пришедшими, беспокойно требующими точного определения. После моего неудачного писательства слово «кокотка» было записано в тетрадь, а в рубрике «Объяснения» стояло одно слово «такая»: Маша не могла мне дать точного объяснения, на кого похожи кокотки. Когда я перебрала ей всех наших знакомых дам и барышень, она с испугом сказала: — Да что Вы, барышня, ведь они же семейные, а она „такая". Инстинктивно, по тону Маши, я почувствовала, что это редкий, особый сорт женщин, и в то же время есть что-то в нем отрицательное, и мать, конечно, лучше об этом не спрашивать. Пьесу «Двоеженец» своего сочинения, я так больше и не видала и, конечно, забыла о ней, а вот сейчас очень бы хотела ее прочесть, что мог написать на такую тему человечек в восемь лет? И как? И в какой форме был реконструирован этот «романический роман» в «драматическую драму»? Еще последний маленький набросок, но в нем я хотела обратить Ваше внимание только на область чувств. Как они возникают, налагают, куют черты характера с детских лет, и если бы взрослые были наблюдательны, придавали бы кажущимся пустякам значение, то насколько можно было бы смягчить, сгладить портящие жизнь недостатки характера, вошедшие потом в привычку. Мне исполнилось восемь лет, и я впервые познакомилась с «ревностью мужчины» и со своей способностью, если и не кружить головы, то все же применять некоторую долю кокетства, присущую женщине. Но как это называется, и что я чувствовала, объяснить бы не сумела тогда. Ревность я не знала, но инстинктивно почувствовала посягательство на мою свободу. Чувство предосторожности, чтобы не попасть в рабство, сильно проявилось у восьмилетней девочки. Это было на Рождество. По каким-то неотложным делам, мой отец задержался в Москве, и мы с мамой выехали к нему, чтобы провести праздники вместе. В Сочельник и на первый день Рождества Христова мы были приглашены в имение, в тридцати верстах от Москвы, к друзьям моих родителей, известному психиатру, доктору Н. У него было два сына: старший Глеб, шестнадцати лет, будущий врач, и Борис, двенадцати, в будущем крупный художник-портретист, самородок, юрист по образованию. Хотя горела елка, но, скорее, это был вечер для молодежи от двенадцати до шестнадцати лет, и я была самая младшая, восьми лет. Итак, Борис, очень красивый мальчик, с довольно сумрачным лицом и тоном заявил, обращаясь ко мне: — Поклянись, что ты мне будешь верна на всю жизнь, и мои рыцарские перчатки в день брака я поднесу тебе. — А как нужно клясться? — спросила я. — Отныне ни с одним мальчиком ты не будешь ни танцевать, ни играть, ни очень много разговаривать, — при этом маленький Отелло больно сжал мне руку и с выражением превосходства, власти и самомнения смотрел на меня. С видом оскорбленной королевы я стряхнула его руку: — Мне не нужны твои перчатки, — не без высокомерия был мой ответ. Это был мой первый бал, мой первый успех маленькой женщины, а не девочки. Я танцевала без устали, не только со всеми мальчиками, но и с самим доктором Н. и с другими взрослыми. Будучи высокого роста, я выглядела значительно старше своих лет, в зеркале передо мной мелькал образ этой маленькой женщины с горячими глазами и щеками, в волнах белых кружев, в ореоле золотистых пышных волос. И в то же время я ни на минуту не теряла из вида сумрачного мальчика, не принимавшего участия в веселье. Мысль, что он «мой рыцарь», и его «перчатки» все же кружили мне голову. — Вы обаятельны, — сказал мне лицеист лет пятнадцати. Он был высокого роста и казался совсем взрослым, настоящим мужчиной. Я нашла карандаш и записала «Вы обаятельны», чтобы не забыть, это слово я слышала впервые. Так как глаза лицеиста выражали восхищение, то оно не могло быть плохим. Мой головокружительный успех был закончен. Было одиннадцать часов, и отец отправил меня спать. Из гордости я ушла с веселой физиономией, но в спальне расплакалась. Мать меня утешала тем, что я и так имела два часа лишних, обыкновенно я ложилась спать в девять часов вечера. — Мама, — сказала я, — если мальчик говорит девочке «Вы обаятельны», что это значит? Мама замешкалась с ответом. Я повторила вопрос. — Это значит что ты милая, хорошая девочка. — Только? — сказала я разочарованно. «Вы обаятельны» не было записано в заветную тетрадь, и я забыла об этом. На другой день мы с Борисом не только примирились, но он положительно зачаровал меня. Забравшись с ногами на кушетку, с тетрадкой и карандашом, он заставлял меня позировать и быстро зарисовывал то с большим бантом, то с распущенными волосами, то с косой, анфас и в профиль, стоя, сидя и так без конца. После каждого сеанса я бросалась, также с ногами на кушетку, впивалась в рисунок, восторженно вскрикивала: — Борис, ведь это я! Я! И опять, и опять. Борис остался до конца своей жизни моим рыцарем, и быть может, я очень охотно приняла бы его перчатки, но его чудовищная ревность оскорбляла, угнетала меня чрезмерно. Чем мы становились старше, тем меньше и меньше мне хотелось с ним встречаться. Первая тетрадка его набросков, первое вдохновение мальчика-самородка, крупнейшего таланта в будущем, и печальный конец его короткой жизни — всему была причиной я. Сейчас я уже старуха, но эта рана всегда кровоточит. Но об этом в свое время.
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 5; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.141.47.178 (0.027 с.) |

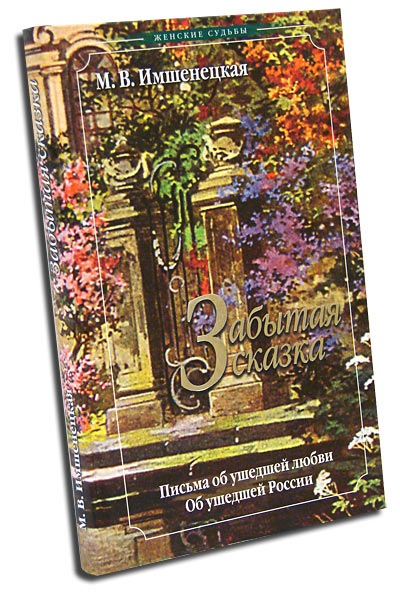


 Последние забавы «Заморской Царевны»
Последние забавы «Заморской Царевны»



