
Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Театральный разъезд после представления новой комедииСодержание книги
Поиск на нашем сайте
(Фрагмент) [Действие пьесы разворачивается в сенях театра после окончания спектакля. Слышен отдаленный гул рукоплесканий. На сцене сначала появляется АВТОР ПЬЕСЫ, о котором в примечании Гоголь указывает: «Само собой разумеется, что автор пьесы лицо идеальное. В нем изображено положение комика в обществе, комика, избравшего предметом осмеяние злоупотреблений в кругу * различных сословий и должностей». Автор хочет узнать мнение зрителей о своей пьесе; отходит в сторону. Один за другим на сцене появляются и уходят зрители, принадлежащие к разным классам и сословиям. Они делятся друг, с другом мнениями о спектакле. Наконец все расходятся. Сени пустеют. Пьеса заканчивается монологом автора.] Автор пьесы {выходя). Я услышал более, чем ( предполагал. Какая пестрая куча толков! Счастье коми- ьу, который родился среди нации, где общество еще не (пилось в одну недвижную массу, где оно не облеклось одной корой старого предрассудка, заключающего мыс-пи всех в одну и ту же форму и мерку, где что человек, ю и мненье, где всякий сам создатель своего характера. Какое разнообразие в этих мнениях, и как везде блеснул пот твердый ясный русский ум: и в сем благородном стремленье государственного мужа! и в сем высоком са-моотверженье забившегося в глушь чиновника! и в нежной красоте великодушной женской души! и в эстетическом чувстве ценителей! и в простом верном чутье народа! Как даже в сих недоброжелательных осуждениях много гого, что нужно знать комику! Какой живой урок! Да, я удовлетворен. Но отчего же грустно становится моему сердцу? Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в нем во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был — смех. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на низкое значение, которое дается ему в свете. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на то что доставил обидное прозванье комику — прозванье холодного эгоиста, и заставил даже усомниться в присутствии нежных движений души его. Никто не вступился за этот смех. Я комик, я служил ему честно, и потому должен стать его заступником. Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлеченья и забавы людей, — но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно биющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Презренное и ничтожное, мимо которого он равнодушно проходит всякий день, не возросло бы перед ним в такой страшной, почти карикатурной силе, и он не вскрикнул бы, содрогаясь: «Неужели есть такие люди?» — тогда как, по собственному сознанию его, бывают хуже люди. Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает
ри, глубокие правители, прекрасный старец и полный благородного стремленья юноша.' Побасенки!.. А вон стонут балконы и перила театров: все потряслось снизу доверху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека, и все люди встретились, как братья, в одном душевном движенье, и гремит дружным рукоплесканьем благодарный гимн тому, которого уже пятьсот лет как нет на свете. Слышат ли это в могиле истлевшие его кости? Отзывается ли душа его, терпевшая суровое горе жизни? Побасенки!.. А вон, среди сих же рядов потрясенной толпы, пришел удрученный горем и невыносимой тяжестью жизни^ готовый поднять отчаянно на себя руку, — и брызнули вдруг свежительные слезы из его очей, и вышел он примиренный с жизнью и просит вновь у неба горя и страданий, чтобы только жить и залиться вновь слезами от таких побасенок. Побасенки!.. Но мир задремал бы без таких побасенок, обмелела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души. Побасенки!.. О, да пребудут же вечно святы в потомстве имена благосклонно внимавших таким побасенкам: чудный перст провиденья был неотлучно над главами творцов их. В минуты даже бед и гонений всё, что было благороднейшего в государствах, становилось прежде всего их заступником: венчанный монарх осенял их царским щитом своим с вышины недоступного престола. Бодрей же в путь! И да не смутится душа от осуждений, но да примет благодарно указанья недостатков, не омрачась даже и тогда, если бы отказали ей в высоких движеньях и в святой любви к человечеству! Мир — как водоворот: движутся в нем вечно мненья и толки; но всё перемалывает время. Как шелуха, слетают ложные и, как твердые зерна, остаются недвижные истины. Что признавалось пустым, может явиться потом вооруженное строгим значеньем. Во глубине холодного смеха могут отыскаться горячие искры вечной могучей любви. И почем знать — может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый возрастает, как исполин, среди бед, — в силу тех же самых законов, кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете!.. Н.В. Гоголь
<...> Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень '% похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» — заметил Полутыкин. «Всё Хорьки, — подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, — да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город... Смотри же, Вася, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» — торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без i удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора, — сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, — хотите зайти?» — «Извольте». — «Она теперь упразднена, — заметил он, слезая, — а все посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, — проговорил г-н Полутыкин, — а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, — сказал мне Полутыкин, — это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, —
заметил мой новый приятель. — В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома. <...> И.С. Тургенев, «Хорь и Калиныч» * * * Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием; была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновенье, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком; она то озарялась вся, словно вдруг в ней все улыбнулось: тонкие стволы не слишком частых берез внезапно принимали нежный отблеск белого шелка, лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались червонным золотом, а красивые стебли высоких кудрявых папоротников, уже окрашенных в свой осенний цвет, подобный цвету переспелого винограда, так и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами; то вдруг опять все кругом слегка синело: яркие краски мгновенно гасли, березы стояли все белые, без блеску, белые, как только что выпавший снег, до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца; и украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела; лишь кое-где стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и
клетчатую юбку. Чистая белая рубаха, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими мягкими складками около ее стана; крупные желтые бусы в два ряда спускались с шеи на грудь. Она была очень недурна собою. Густые белокурые волосы прекрасного пепельного цвета расходились двумя тщательно причесанными полукругами из-под узкой алой повязки, надвинутой почти на самый лоб, белый, как слоновая кость; остальная часть ее лица едва загорела тем золотистым загаром, который принимает одна тонкая кожа. Я не мог видеть ее глаз — она их не поднимала; но я ясно видел ее тонкие, высокие брови, ее длинные ресницы: они были влажны, и на одной из ее щек блистал на солнце высохший след слезы, остановившейся у самых губ, слегка побледневших. Вся ее головка была очень мила; даже немного толстый и круглый нос ее не портил. Мне особенно нравилось выражение ее лица: так оно было просто и кротко, так грустно и так полно детского недоуменья перед собственной грустью. Она, видимо, ждала кого-то; в лесу что-то слабо хрустнуло: она тотчас подняла голову и оглянулась; в прозрачной тени быстро блеснули передо мной ее глаза, большие, светлые и пугливые, как у лани. Несколько мгновений прислушивалась она, не сводя широко раскрытых глаз с места, где раздался слабый звук, вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась и принялась медленно перебирать цветы. Веки ее покраснели, горько шевельнулись губы, и новая слеза прокатилась из-под густых ресниц, останавливаясь и лучисто сверкая на щеке. Так прошло довольно много времени; бедная девушка не шевелилась, — лишь изредка тоскливо поводила руками и слушала, все слушала... Снова что-то зашумело по лесу, — она встрепенулась. Шум не переставал, становился явственней, приближался, послышались наконец решительные, проворные шаги. Она выпрямилась и как будто оробела; ее внимательный взор задрожал, зажегся ожиданьем. Сквозь чащу быстро замелькала фигура мужчины. Она вгляделась, вспыхнула вдруг, радостно и счастливо улыбнулась, хотела было встать и тотчас опять поникла вся, побледнела, смутилась — и только тогда подняла трепещущий, почти молящий взгляд на пришедшего человека, когда тот остановился рядом с ней.
И. С. Тургенев, «Свидание» * * # <...> На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел: Ты спишь ли? Гитарой Тебя разбужу... Я поспешил отворить ему дверь. — Здравствуйте, — сказал Гагин, входя, — я вас ра С своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро. Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои планы на будущее: владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому; я также упомянул о моих предположениях, да кстати поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной раза два из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился. Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отпра-иилась на «развалину». Верстах в двух от города Л.,находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение. — Да, да, — подхватил он со вздохом, — вы правы; Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван. — Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-ни Мы пошли. Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных
— А ведь это Ася! — воскликнул Гагин, — экая су Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности. — Полноте, — сказал мне шепотом Гагин, — не Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас чрез очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное... «Она хочет удивить нас, — думал я, — к чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды. <...> И. С. Тургенев, «Ася» КОНЯГА Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужичком ее одолели. Коняга — обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалялась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит. А силы Коняге набраться неоткуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживится, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел. Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: «Ну, милый, упирайся!» — услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними — забирает, морду к груди пригнет. «Ну, каторжный, вывози!» А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы 'не дала. Пройдут борозду из конца в конец — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть — и Коняге и мужику; каждый день смерть. Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит; юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные — они железным кольцом охватили
Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало, — той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи. Лежит Коняга на самом солнечном припеке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он — только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли Коняга или помирает — нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе Бог бессловесной животине отказал. Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых," не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой все дальше и дальше в бездонную глубь. Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца-краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном — оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас — опять народилось. Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель — Коняга. Для всех поле раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно — кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: «Ну. милый! ну, каторжный! ну!» Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз... Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение — отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напо-яет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию — бедный Коняга знает о нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь. Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несет это иго — он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди — не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа.
\
Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Жил, во времена оны, старый конь, и было у него два < Смотрит — ан братец-то у него бессмертный! Бьют I его чем ни попадя, а он живет; кормят его соломою, | 214. а он живет! И в какую сторону поля ни взгляни, везде все братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом — он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может! И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать. Один скажет: — Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от Другой возразит: — Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сло Третий молвит: — Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь ду А четвертый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет: — Ах, господа, господа! все-то вы пальцем в небо по
И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами: — Н-но, каторжный, шевелись! Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется. — Смотрите-ка, смотрите-ка! — закричат они вкупе М.Е. Салтыков-Щедрин А этот рассказ — о волшебной силе интонации. Не зная ни единого слова на чужом языке, можно всё понять по.одной лишь интонации... ИСТОРИЯ ДИРИЖЕРА КАЛИНЫ ...Так вот, приехал я в Ливерпуль. Меня уже ждали на вокзале и отвезли в гостиницу отдохнуть. Я принял ванну, пошел осмотреть город и... заблудился. Когда мне случается попасть в новый город, я прежде всего иду к реке. У реки человеку слышна, так сказать, оркестровка города. С одной стороны, уличный шум — барабаны и литавры, трубы, горны и медь, а с другой — река, то есть струнная группа, пианиссимо скрипок и арф. И вы слышите всю симфонию города. Но в Ливерпуле река — не знаю, как она называется, — бурая, неприглядная, и на ней шум, грохот, треск, зво
|
|||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; просмотров: 361; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.64.210 (0.026 с.) |




 смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но, озаренное силою смеха, несет оно уже примиренье в душу. И тот, кто бы понес мщение про-тиву злобного человека, уже почти мирится с ним, видя осмеянными низкие движенья души его. Несправедливы те, которые говорят, что смех не действует на тех, про-тиву которых устремлен, и что плут первый посмеется над плутом, выведенным на сцену: плут-потомок посмеется, но плут-современник не в силах посмеяться! Он слышит, что уже у всех остался неотразимый образ, что одного низкого движенья с его стороны достаточно, чтобы этот образ пошел ему в вечное прозвище; а насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете. Нет, засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая душа. Но не слышат могучей силы такого смеха: «что смешно, то низко», — говорит свет; только тому, что произносится суровым, напряженным голосом, тому только дают названье высокого. Но, Боже! сколько проходит ежедневно людей, для которых нет вовсе высокого в мире! Все, что ни творилось вдохновеньем, для них пустяки и побасенки; созданья Шекспира для них побасенки; святые движенья души — для них побасенки. Нет, не оскорбленное мелочное самолюбье писателя заставляет меня сказать это, не потому, что мои незрелые, слабые созданья были сейчас названы побасенками, — нет, я вижу свои пороки и вижу, что достоин упреков; но не могла выносить равнодушно душа моя, когда совершеннейшие творения честились именами пустяков и побасенок, когда все светила и звезды мира признавались творцами одних пустяков и побасенок! Ныла душа моя, когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных, мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей и бесплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на бесчувственных их лицах не вздрагивал даже ни призрак выражения от того, что повергало в небесные слезы глубоко любящую душу, и не коснел язык их произнести свое вечное слово «побасенки»! Побасенки!.. А вон протекли веки, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось все, что было, — а побасенки живут и повторяются поныне, и внемлют им мудрые ца-
смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но, озаренное силою смеха, несет оно уже примиренье в душу. И тот, кто бы понес мщение про-тиву злобного человека, уже почти мирится с ним, видя осмеянными низкие движенья души его. Несправедливы те, которые говорят, что смех не действует на тех, про-тиву которых устремлен, и что плут первый посмеется над плутом, выведенным на сцену: плут-потомок посмеется, но плут-современник не в силах посмеяться! Он слышит, что уже у всех остался неотразимый образ, что одного низкого движенья с его стороны достаточно, чтобы этот образ пошел ему в вечное прозвище; а насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете. Нет, засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая душа. Но не слышат могучей силы такого смеха: «что смешно, то низко», — говорит свет; только тому, что произносится суровым, напряженным голосом, тому только дают названье высокого. Но, Боже! сколько проходит ежедневно людей, для которых нет вовсе высокого в мире! Все, что ни творилось вдохновеньем, для них пустяки и побасенки; созданья Шекспира для них побасенки; святые движенья души — для них побасенки. Нет, не оскорбленное мелочное самолюбье писателя заставляет меня сказать это, не потому, что мои незрелые, слабые созданья были сейчас названы побасенками, — нет, я вижу свои пороки и вижу, что достоин упреков; но не могла выносить равнодушно душа моя, когда совершеннейшие творения честились именами пустяков и побасенок, когда все светила и звезды мира признавались творцами одних пустяков и побасенок! Ныла душа моя, когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных, мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей и бесплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на бесчувственных их лицах не вздрагивал даже ни призрак выражения от того, что повергало в небесные слезы глубоко любящую душу, и не коснел язык их произнести свое вечное слово «побасенки»! Побасенки!.. А вон протекли веки, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось все, что было, — а побасенки живут и повторяются поныне, и внемлют им мудрые ца-






 пестрея, сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем. Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли; лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок си» ницы. Прежде чем я остановился в этом березовом леску, я с своей собакой прошел через высокую осиновую рощу. Я, признаюсь, не слишком люблю это дерево — осину — с ее бледно-лиловым стволом и серо-зеленой, металли- • ческой листвой, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером раскидывает на воздухе; не люблю я вечное качанье ее круглых неопрятных листьев, неловко прицепленных к длинным стебелькам. Она бывает хороша только в иные летние вечера, когда, возвышаясь отдельно среди низкого кустарника, приходится в упор рдеющим лучам заходящего солнца и блестит и дрожит, с корней до верхушки облитая одинаковым желтым багрянцем, — или когда, в ясный ветреный день, она вся шумно струится и лепечет на синем небе, и каждый лист ее, подхваченный стремленьем, как будто хочет сорваться, слететь и умчаться вдаль. Но вообще я не люблю этого дерева и потому, не остановясь в осиновой роще для отдыха, добрался до березового леска, угнездился под одним деревцом, у которого сучья начинались низко над землей и, следовательно, могли защитить меня от дождя; и, nor любовавшись окрестным видом, заснул тем безмятежными и кротким сном, который знаком одним охотникам.,[ Не могу сказать, сколько я времени проспал, но ког~#. да я открыл глаза — вся внутренность леса была напол-; нена солнцем и во все направленья, сквозь радостно шу- ■ мевшую листву, сквозило и как бы искрилось ярко-го- д лубое небо; облака скрылись, разогнанные взыгравшим,!? ветром; погода расчистилась, и в воздухе чувствовалась; та особенная, сухая свежесть, которая, наполняя сердце каким-то бодрым ощущеньем, почти всегда предсказывает мирный и ясный вечер после ненастного дня. Я собрался было встать и снова попытать счастья, как вдруг' глаза-мои остановились на неподвижном человеческом образе. Я вгляделся: то была молодая крестьянская девушка. Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво * потупив голову и уронив обе руки на колени; на одной из них, до половины раскрытой, лежал густой пучок полевых цветов и при каждом ее дыханье тихо скользил на
пестрея, сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем. Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли; лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок си» ницы. Прежде чем я остановился в этом березовом леску, я с своей собакой прошел через высокую осиновую рощу. Я, признаюсь, не слишком люблю это дерево — осину — с ее бледно-лиловым стволом и серо-зеленой, металли- • ческой листвой, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером раскидывает на воздухе; не люблю я вечное качанье ее круглых неопрятных листьев, неловко прицепленных к длинным стебелькам. Она бывает хороша только в иные летние вечера, когда, возвышаясь отдельно среди низкого кустарника, приходится в упор рдеющим лучам заходящего солнца и блестит и дрожит, с корней до верхушки облитая одинаковым желтым багрянцем, — или когда, в ясный ветреный день, она вся шумно струится и лепечет на синем небе, и каждый лист ее, подхваченный стремленьем, как будто хочет сорваться, слететь и умчаться вдаль. Но вообще я не люблю этого дерева и потому, не остановясь в осиновой роще для отдыха, добрался до березового леска, угнездился под одним деревцом, у которого сучья начинались низко над землей и, следовательно, могли защитить меня от дождя; и, nor любовавшись окрестным видом, заснул тем безмятежными и кротким сном, который знаком одним охотникам.,[ Не могу сказать, сколько я времени проспал, но ког~#. да я открыл глаза — вся внутренность леса была напол-; нена солнцем и во все направленья, сквозь радостно шу- ■ мевшую листву, сквозило и как бы искрилось ярко-го- д лубое небо; облака скрылись, разогнанные взыгравшим,!? ветром; погода расчистилась, и в воздухе чувствовалась; та особенная, сухая свежесть, которая, наполняя сердце каким-то бодрым ощущеньем, почти всегда предсказывает мирный и ясный вечер после ненастного дня. Я собрался было встать и снова попытать счастья, как вдруг' глаза-мои остановились на неподвижном человеческом образе. Я вгляделся: то была молодая крестьянская девушка. Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво * потупив голову и уронив обе руки на колени; на одной из них, до половины раскрытой, лежал густой пучок полевых цветов и при каждом ее дыханье тихо скользил на

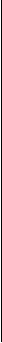

 Я с любопытством посмотрел на него из своей засады. Признаюсь, он не произвел на меня приятного впечатления. Это был, по всем признакам, избалованный камердинер молодого, богатого барина. Его одежда изобличала притязание на вкус и щегольскую небрежность: на нем было коротенькое пальто бронзового цвета, вероятно, с барского плеча, застегнутое доверху, розовый галстучек с лиловыми кончиками и бархатный черный картуз с золотым галуном, надвинутый на самые брови. Круглые воротнички его белой рубашки немилосердно подпирали ему уши и резали щеки, а накрахмаленные рукавчики закрывали всю руку вплоть до красных и кривых пальцев, украшенных серебряными и золотыми кольцами с незабудками из бирюзы. Лицо его, румяное, свежее, нахальное, принадлежало к числу лиц, которые, сколько я мог заметить, почти всегда возмущают мужчин и, к сожалению, очень часто нравятся женщинам. Он, видимо, старался придать своим грубоватым чертам выражение презрительное и скучающее; беспрестанно щурил свои и без того крошечные молочно-серые глазки, морщился, опускал углы губ, принужденно зевал и с небрежной, хотя не совсем ловкой развязностью то поправлял рукою рыжеватые, ухарски закрученные виски, то щипал желтые волосики, торчавшие на толстой верхней губе, — словом, ломался нестерпимо. Начал он ломаться, как только увидал молодую крестьянку, его ожидавшую; медленно, развалистым шагом подошел он к ней, постоял, передернул плечами, засунул обе руки в карманы пальто и, едва удостоив бедную девушку беглым и равнодушным взглядом, опустился на землю. <...>
Я с любопытством посмотрел на него из своей засады. Признаюсь, он не произвел на меня приятного впечатления. Это был, по всем признакам, избалованный камердинер молодого, богатого барина. Его одежда изобличала притязание на вкус и щегольскую небрежность: на нем было коротенькое пальто бронзового цвета, вероятно, с барского плеча, застегнутое доверху, розовый галстучек с лиловыми кончиками и бархатный черный картуз с золотым галуном, надвинутый на самые брови. Круглые воротнички его белой рубашки немилосердно подпирали ему уши и резали щеки, а накрахмаленные рукавчики закрывали всю руку вплоть до красных и кривых пальцев, украшенных серебряными и золотыми кольцами с незабудками из бирюзы. Лицо его, румяное, свежее, нахальное, принадлежало к числу лиц, которые, сколько я мог заметить, почти всегда возмущают мужчин и, к сожалению, очень часто нравятся женщинам. Он, видимо, старался придать своим грубоватым чертам выражение презрительное и скучающее; беспрестанно щурил свои и без того крошечные молочно-серые глазки, морщился, опускал углы губ, принужденно зевал и с небрежной, хотя не совсем ловкой развязностью то поправлял рукою рыжеватые, ухарски закрученные виски, то щипал желтые волосики, торчавшие на толстой верхней губе, — словом, ломался нестерпимо. Начал он ломаться, как только увидал молодую крестьянку, его ожидавшую; медленно, развалистым шагом подошел он к ней, постоял, передернул плечами, засунул обе руки в карманы пальто и, едва удостоив бедную девушку беглым и равнодушным взглядом, опустился на землю. <...>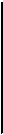
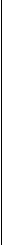
 горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уж наверное художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четыреугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кой-где лепился плющ; искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью.
горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уж наверное художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четыреугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кой-где лепился плющ; искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью.

 деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек, вдали идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет.
деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек, вдали идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет.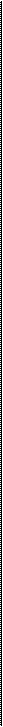

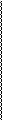

 Самая жизнь Коняга запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде все он, все один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни — только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идет? — вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее... Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно., как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.
Самая жизнь Коняга запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде все он, все один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни — только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идет? — вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее... Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно., как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.


 а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек этаких, по полю разбрелось — и все, как один. Калечьте их теперича сколько угодно — их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас — его нет, а сейчас — он опять из-под земли выскочил.
а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек этаких, по полю разбрелось — и все, как один. Калечьте их теперича сколько угодно — их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас — его нет, а сейчас — он опять из-под земли выскочил.


