
Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Нельзя сохранить надежное основание, не научившись распознавать великую ложь постмодернизма
Несколько лет назад, в период бума высоких технологий, я по- сетил Кремниевую долину — место, в котором тогда бурно росли цены на недвижимость, повышалась стоимость акций, рождались новые мечты и ожидания. Казалось, процветанию и счастью обита-
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
телей этой многообещающей долины не будет конца. Мой близкий друг по имени Марк организовал в одном из изысканных ресторанов приватную встречу за обеденным столом для узкого круга своих дру- зей и участников проводимого им библейского класса. По пути в ре- сторан Марк предупредил, что один из приглашенных не разделяет мое мировоззрение. Этот человек был чрезвычайно влиятелен — из- вестный на всю страну футуролог, способный предсказать, какое нижнее белье будут носить люди через двадцать лет. Его информа- ционные бюллетени высоко ценились производителями, маркетоло- гами и инвестиционными компаниями. Нашу группу препроводили в приватный кабинет и разместили за большим квадратным столом по три-четыре человека с каждой сто- роны. Как и все остальное в Кремниевой долине, обстановка была не- принужденной. После непродолжительного разговора ни о чем мой друг представил меня, и следующие двадцать минут я рассказывал о тюрьмах, служении, культурологических проблемах и тому подобном. Не успел я договорить, как прославленный футуролог, который сидел рядом со мной, смерил меня хмурым взглядом и произнес: «Вот именно за это я вас, христиан, и не люблю. Вы думаете, что знаете ответы на все вопросы, что только вам известен путь на не- беса». Неприятно удивленный его враждебностью, я попытался мягко объяснить, во что верят христиане. Я сказал ему, что слова: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», — принадлежат Иисусу, а не мне,11 и напомнил, что Иисус твердо заявлял об истинности Своих слов. Презрительно отмахнувшись, футуролог заявил: «Нет, нет, это же абсурд. Мы знаем, что все религии одинаковы, и все окажутся в одном и том же месте». Я ответил, что все религии претендуют на свою исключитель- ность. Евреи верят, что только они обладают исключительной исти- ной, и, чтобы быть принятым Богом, человек должен находиться среди обрезанных, принадлежать народу Завета. Мусульмане также претендуют на исключительную истину: что никто не сможет попасть в рай, не угождая Аллаху. Буддисты же утверждают, как несомнен- ную истину, что наши желания не приносят ничего, кроме страданий, и потому должны быть отвергнуты. Как любая другая религия, хри- стианство придерживается определенного набора верований — утвер- ждений о реальности.
«Нет, нет, — опять возразил футуролог с улыбкой, дающей по- нять, что он обладает более просвещенным взглядом на эти вопросы. И продолжил тоном, напомнившим мне Стэнли Фиша. — На самом деле, все это — не претензии на истину, а всего лишь предпочтения
Г Л А В А 1 8
или убеждения отдельных групп. Между ними нет никаких разли- чий». И он пожал плечами, явно желая показать, чего, по большому счету, стоит эта смесь предпочтений. «Но это невозможно, — заметил я. — Один набор утверждений исключает другие». Футуролог опять покачал головой. Тогда я вынул ручку и бросил ее на стол. «Обратите внимание: она упала, — сказал я, после чего бросил ручку еще несколько раз. — Как видите, она все время падает. Не было ни одного случая, чтобы она не упала. Разве мы не называем это законом гравитации?» «Но на самом деле это не падение, — засмеялся мой оппо- нент. — Я достаточно осведомлен в квантовой механике, чтобы пони- мать, что частицы находятся в постоянном движении, скорость которого превышает скорость света, и эти частицы просто пронизы- вают друг друга». На это я ответил одним коротким словом: «Вздор», — после чего объяснил: «То, что вы видите, — это падение ручки, соударение масс. Если при этом частицы пронизывают друг друга, — пускай, это все равно ничего не меняет. Мы по-прежнему имеем одну массу, со- ударяющуюся с другой. Так что, как видите, истина существует». Теперь лицо моего соседа по застолью вспыхнуло розовыми от- тенками гнева. Но я не унимался: «Одна претензия на истинность исключает другую. Обе могут быть ошибочными, но обе не могут быть одновременно справедливыми. Все дороги не могут вести на не- беса. В противном случае, мы должны отменить закон непротиворе- чия. Уверен, вы читали об Аристотеле — он идет в учебной программе гораздо раньше квантовой механики».
Мой оппонент, у которого уже побагровела шея, выглядел очень разгневанным и смущенным. Он сосредоточенно уставился на свою чашку с кофе, словно ища в ней успокоение. «Претензии рели- гий противоречат здравому смыслу», — буркнул он сквозь зубы. Современные элиты считают людей веры иррациональными? По правде говоря, именно постмодернизм во многом отбросил здравый смысл и в процессе этого оставил своих приверженцев «крепко за- стрявшими обеими ногами в воздухе».
Очень важно понимать это, чтобы даже подсознательно не втя- нуть себя в иррациональность постмодернизма, не вывесить в витрине своего разума транспарант: «Толерантность — мой бог». Нельзя со- хранить надежное основание, не научившись распознавать великую ложь постмодернизма.
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
Культурные элиты и силы могут навязывать нам транспаранты, отвергающие возможность познать истину, но мы должны возвышать свой голос в поддержку очевидного: истина существует, и ее можно познать. По большому счету, это куда важнее, чем проблемы сексу- альной ориентации, социальной терпимости или общественных вы- ступлений. Это важно, потому что, в буквальном смысле слова, определяет жизнь и смерть. А это уже становится глубоко личным вопросом. По крайней мере, для меня.
Глава 19
Насколько ценна жизнь?
пича на пересечении двух больших автомагистралей примерно в три- дцати километрах от Бостона. В центре этого здания была башня с внутренним двориком, крытая светоотражающим стеклом. Кирпич- ные крылья здания расходились по обе стороны от башни. На их голых стенах виднелись лишь два ряда маленьких окон с большими промежутками между ними. Подобные закрытые, душные строения были типичными для фабрик, и в подвале этой школы действительно располагалась механическая мастерская. Классы, в которых зани- мался Макс, находились на первом этаже, где администрация школы смогла арендовать достаточно места, чтобы создать условия для учебы восьмидесяти детей с особыми потребностями, — в основном с серьезной формой аутизма. Здание находилось посреди промышлен- ной зоны. Единственное, что было зеленым на сотни метров вокруг — это дорожные указатели на автомагистрали. Мы с Пэтти приехали как раз к окончанию занятий. Как пра- вило, дети из этой школы жили в общежитиях. Макс был одним из немногих счастливчиков, которые после занятий уезжали домой — отчасти, благодаря тому, что Эмили удавалось очень эффективно справляться с ним. Когда мы вошли через парадный вход, одна из сотрудниц школы быстро взяла нас под руку и отвела в сторону. «Подождите здесь, — сказала она. — Когда дети направятся к выходу, они могут вас затоптать». Через несколько секунд мы услышали на- растающий грохот. Это к выходу спешили ученики. Большинство из них были младшего и среднего подросткового возраста. Поначалу я подумал, что сотрудница школы чересчур предусмотрительна, но
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
затем вспомнил, что Макс, желая переместиться из пункта А в пункт Б, никогда не обходит никого и ничто. (Дети-аутисты плохо осознают свое собственное физическое присутствие. Они могут наступить вам на ногу, и даже не заметить этого.) Ученики хаотической толпой на- правлялись к школьным автобусам, которые должны были развезти их по пригородным общежитиям. Мы с Пэтти пытались с ними здо- роваться, но почти никто не отреагировал. Казалось, они нас вообще не замечают. Сотрудница школы была рону с их пути! Сколько времени я уделяю
Аутизм — это не то же самое, что синдром Дауна или врожденные патологии, ведущие к физическим де- фектам. Большинство детей-аутистов выглядят точно так же, как их обыч- ные сверстники. Правда, у некоторых из них пустой, отрешенный взгляд, а у других неуклюжая походка из-за нарушений моторики. У нескольких человек в толпе были компьютерные планшеты, помогавшие им от- вечать на вопросы с помощью специальной голосовой программы. Если бы не эти устройства, то из-за своего неврологического рас- стройства дети были бы практически немыми. Толпа понемногу рассеивалась, и в ее хвосте мы увидели Макса. Заметив нас, он расплылся в улыбке и побежал к нам с широко рас- ставленными в стороны руками, готовясь заключить нас в объятия. Макс — очень любвеобильный ребенок, и мы с радостью одарили его знаками внимания. Затем он схватил меня и Пэтти за руки и потащил нас вглубь школы. Ему не терпелось показать нам свой класс и по- знакомить с учителями. Эти люди, терпеливо трудившиеся над Максом час за часом, день за днем, произвели на меня сильное впечатление. Они работали по многу часов в напряженных условиях за весьма скромную зар- плату. Присмотр за детьми-аутистами —отнюдь не простая задача. Макс, будучи очень коммуникабельным, требует постоянного внима- ния. Он нуждается в прикосновениях, объятиях и любви. Многие дети-аутисты даже в подростковом возрасте не умеют контролиро- вать свой кишечник, и им приходится менять подгузники. В конце каждого учебного дня, когда ученики в три часа разъ- езжаются по домам, рабочая смена педагогов еще далеко не завер- шена. Преподавательский состав собирается, чтобы обсудить поведение каждого из детей и тщательно распланировать график на следующий день. Количественное соотношение персонала и учеников
Г Л А В А 1 9
в этой школе высоко: в классе Макса на семь детей приходится чет- веро преподавателей. Эта работа требует большой физической вы- носливости. Дети временами бывают агрессивными, и их надо мягко обуздывать. В таких ситуациях мягкость зачастую требует серьезных усилий сразу нескольких человек. Макс весит 60 килограмм и иногда, не зная, как выразить свои потребности или недовольство, он просто падает на парту или на пол и отказывается сдвинуться с места. По сравнению же со многими одноклассниками, Макс требует еще не так много физических усилий от своих учителей. Преимущественно женский преподавательский состав демон- стрировал неподдельную жизнерадостность. Они буквально лучились радостью. «Где находят таких людей для работы в подобных школах?» — недоумевал я. Опросы среди педагогов на предмет их удовлетворенности своей работой показывают, что основной моти- вирующей силой для них является помощь детям. В этой профессии альтруизм живет и процветает.1 Мне была понятна их радость. Я тоже ощущал ее, когда учился проявлять любовь к Максу, ухаживая за ним. Мой внук научил меня гораздо большему, чем я научил его. Для меня это была хорошая школа, показавшая, что значит быть дедушкой. Когда мои дети росли, меня большую часть времени не было дома — я был слишком занят делами спасения этого мира. И потому далеко не так часто, как сле- довало, наслаждался кувырканием с детьми по траве. Теперь же, когда Макс гостит у нас или мы гостим у него, моя жизнь сосредо- точивается всецело на нем. Я не могу оставить его перед телевизо- ром, а сам отправиться работать в свой кабинет. Вечером я не могу просто почитать Максу книгу, помолиться с ним, погладить по голове и велеть идти спать. Чтобы помочь ему заснуть, мне иногда прихо- дилось часами играть с ним в одни и те же игры. Когда Макс при- езжает к нам, мой распорядок дня становится его распорядком. Режим дня Макса заставляет меня пересматривать свои прио- ритеты. Это позволяет мне размышлять о том, сколько времени я уделяю тому, чтобы что-то делать — зачастую, просто отвлекаясь от главного, — и сколько тому, чтобы кем-то быть. В тот день, когда мы навестили школу Макса, он провел нас по тесным, устланным серым линолеумом коридорам к своему классу. Комната не пестрела картинками смешных зверюшек и человечков на стенах, таблицами алфавита, тематическими плакатами, стендами «Ученик недели» и грудой наглядных пособий, обычных для боль- шинства современных начальных школ. Этот класс выглядел крайне строго. Для детей-аутистов окружающий мир — слишком сильный раздражитель. Одна из особенностей их недуга заключается в том, что они хуже обрабатывают сенсорные стимулы, поэтому в классе
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
Макса было только семь парт на металлической раме с деревянной столешницей. Календарь на стене перед ними содержал четкий и под- робный распорядок дня. Упорядоченность жизни дает детям-аути- стам ощущение безопасности. Кроме того, у каждого ребенка есть собственный график заданий, обозначенный его фотографией. В зад- ней части комнаты располагалась застеленная ковром зона отдыха с книжным шкафом и корзинами для хранения игрушек. В день нашего приезда Макс работал над тем, чтобы самостоятельно читать в тече- ние пяти минут. Само по себе, чтение не составляло для него про- блем. Величайшей трудностью для Макса было научиться работать самостоятельно, и потому его преподаватель наметила для него цель: двадцать минут работы без посторонней помощи. Для того чтобы сделать эту комнату максимально удобной и уютной для детей, было приложено немало усилий. Эти внимание и забота никогда не встретят взаимной сердечности — по крайней мере, не в той форме, как мы обычно это понимаем. Детей-аутистов не только приводит в смятение и пугает водоворот стимулов окружаю- щего мира. Еще в меньшей степени они способны выразить инфор- мацию, которую в силах воспринять. Оставшись на минуту наедине, я стоял посреди классной ком- наты, как вдруг меня посетила непрошенная мысль. Точнее, это был вопрос. Почему мы, как общество, тратим столько сил на этих детей? Зачем школьная система расходует 65 тысяч долларов в год на об- служивание одного ребенка, подобного Максу? Мой внук никогда не сможет получить среднее образование, поступить в колледж и за- няться продуктивной работой. Конечно, Макс достиг огромного про- гресса, но сможет ли он когда-нибудь сам заботиться о себе — это большой вопрос. Скорее всего, ему суждено всегда зависеть от своей семьи и государства. Чтобы просто занимать его и развлекать, а также создать для него комфортные условия жизни, требуются ог- ромные финансовые затраты. Если бы Макс не посещал школу, то на одно лишь его содержание в специализированном интернате в год уходило бы более 50 тысяч долларов. Я невольно подумал о Питере Сингере — профессоре этики из Принстона, утверждающем, что руководящей философией общества должно быть достижение максимума счастья или удовольствий для максимального числа живых существ — как людей, так и животных. Журнал «New Yorker» назвал Сингера самым влиятельным из всех ныне живущих философов.2 Представьте, сколько удовольствий и счастья можно принести десяткам тысяч голодающих африканских детей за те 65 тысяч долларов, которые тратятся на обучение Макса в этой школе. От осознания того, насколько весомо — и как есте- ственно — звучат доводы Сингера, у меня по спине пробежал холодок.
Г Л А В А 1 9
Моральная философия Сингера — это одна из форм утилита- ризма, который развился до его современного состояния из трудов Джона Стюарта Милла, написанных еще в XIX веке. Милл оказал значительное влияние на современную либеральную философию, ко- торая рассматривает свободу как отсутствие ограничений. Описывая взгляды Сингера, один из созвучных ему писателей говорил, что нравственность не является с небес или со звезд — она приходит тогда, когда вы даете максимальному числу людей то, чего они хотят и в чем нуждаются.3 Большинство атеистов и представителей постре- лигиозной европейской цивилизации принимают эту идею, как наи- более разумный способ служить социальным нуждам общества. Если удовольствия и счастье — это смысл или истинная цель жизни, то нравственность должна заключаться в рациональном распределении удовольствий и счастья между теми, кто больше всего способен ими насладиться. Этот тезис выглядит настолько разумным, что его при- няли даже многие христиане.
Питер Сингер характеризует свою философию как этику, вы- текающую из неизбежных следствий дарвинизма. Он доводит свою теорию до логических, хотя и скандальных заключений. Например, Сингер выступает в поддержку умерщвления детей, родившихся с де- фектами.4 Он говорит, не смягчая выражений: «Мое мнение о мла- денцах с тяжелыми отклонениями неизменно: если жизнь настолько несчастна, что теряет какую-либо ценность, то для них допустима смертельная инъекция». Сингер задает риторический вопрос: «Зачем ограничивать убийство утробой?» Словно отвечая на собственный вопрос, он говорит: «Умерщвление младенцев заслуживает отверже- ния не больше, чем аборты».5 Выводы Сингера вполне логичны, хотя у большинства людей они вызывают интуитивное отвращение — по крайней мере, пока. Воз- ражения против своей философии Сингер отметает, как пустую сен- тиментальность. И все же — что делать с детьми вроде Макса и всех его одно- классников, которым удалось избежать щипцов в абортарии и смер- тельных инъекций из рук врачей? В конце концов, Макс — человек, подросток, красивый, крепкий парень, любящий жизнь и людей. Ко- нечно же, вы не захотели бы избавиться от него. Но подумайте еще раз о том, что можно было бы сделать с по- мощью 65 тысяч долларов в год, причем каждый год, — и не только для голодающих детей в Африке, но и для детей из бедных кварталов американских городов, нуждающихся в лучших общественных школах.
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
А как насчет медицинского обслуживания малоимущих? Только пред- ставьте, сколько полезного можно было бы сделать в системе бесплат- ной медпомощи, которая всегда страдает от недофинансирования. Те, кто думают, что гуманизм никогда не посягнет на людей с серьезными дефектами — и особенно, детей, — просто не знают исто-
Германию 1930-х годов, еще до уста- новления режима Гитлера. Этот самый культурный и образованный народ Ев- ропы открыто одобрял евгенику — из- бирательное воспроизведение людей и устранение инвалидов. Врачи, препо- даватели и общественные деятели об- суждали, как избавить Германию от «традиционного для XIX века состра- дательного отношения к хронически больным»,6 по выражению одного доктора. Немецкие медицинские журналы с большим интересом об- суждали вопросы стерилизации и эвтаназии людей с хроническими заболеваниями. Пропагандистская кампания начала подталкивать народ Германии к принятию утилитарной точки зрения. Эта кампания привела к созданию в 1941 году кинофильма «Я обвиняю». В нем показана женщина, страдающая рассеянным скле- розом, которой ее муж-врач помогает совершить самоубийство. Пока она умирала, сострадательный коллега ее супруга наигрывал в со- седней комнате классику на пианино. (Сколько подобных «любя- щих» актов эвтаназии стали сюжетами телепрограмм в нашей стране?) Пропаганда не обошла стороной и детей. Текст в учебниках для старших классов, озаглавленный «Математика на службе у нацио- нального политического образования», содержал математические за- дачи, касающиеся ухода за хроническими больными и инвалидами. Этим восприимчивым школьникам был задан тот же самый вопрос, который так встревожил меня в классной комнате Макса: «Сколько денег высвободилось бы на займы для молодых семей и пособия для молодоженов, если бы государство могло сэкономить на содержании ‘инвалидов, преступников и сумасшедших’?»7 В 1939 году, когда в об- ществе были созданы необходимые условия, а несогласие — практи- чески подавлено, Гитлер издал прямой указ об эвтаназии. От медицинских учреждений потребовали предоставить данные о паци- ентах, болевших уже более пяти лет и неспособных работать. Анкеты таких пациентов затем передали на изучение экспертам-консультан-
Г Л А В А 1 9
там, большинство из которых были профессорами психиатрии из из- вестных институтов. Например, за период между 14 ноября и 1 де- кабря 1940 года они проанализировали 2109 анкет. Это был официальный старт будущей кампании по массовому уничтожению нежелательных людей.8 Едва учредив эвтаназию, в Германии создали организацию, по- священную исключительно вопросам убийства детей: «Государствен- ный комитет по научному подходу к тяжелым заболеваниям, обусловленным наследственностью и телосложением». Вскоре была разработана хорошо продуманная система доставки поездами и ав- тобусами социально непригодных из их мест проживания и медуч- реждений в так называемые «ликвидационные центры». Там детей раздевали догола, одевали в бумажные рубахи и заводили в газовую камеру. Затем их мертвые тела вывозили на тележках в крематорий для сожжения. По словам одного из немецких юристов, не было и дня, когда над городом Хадамар не поднимался дым. Работники мест- ного ликвидационного центра ночь напролет пьянствовали в барах, безбоязненно разговаривая о своих повседневных обязанностях. Люди боялись, что все дома престарелых уже зачищены, а старики — просто ликвидированы.9 Но Гитлер был демоническим исключением из всех историче- ских норм, — возразите вы. Не совсем так. Его директивы выполняли высокообразованные, умные и во всех других отношениях высоко- нравственные, добропорядоч- ные немцы. Немецкие врачи той эпохи считались одними из лучших в мире. Среди них были люди вроде Альберта Шпе- ера, — любителя природы и отца шестерых детей. Величай- шее зло больше всего ошелом- ляет тем, как часто оно является в личине добра, совер- шаемого в стремлении к, каза- лось бы, благородной цели. Сегодня многие решения,
Разговоры о евгенике, которая практиковалась в Германии, об умерщвлении младенцев и абортах по половому признаку в совре- менных Китае и Индии, а также рассуждения о том, что могло бы произойти у нас, позволяют слишком легко увести проблему в тень. Утилитарный подход Питера Сингера уже в значительной мере пра- вит и нашей системой здравоохранения. То, что я сейчас скажу, возможно, кого-то заденет за живое и, по сути, может отозваться тревожным эхом в миллионах домов Аме-
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
рики и Европы. Сегодня почти каждая молодая пара, ожидающая ре- бенка, получает информацию о потенциальных проблемах со здо- ровьем их не родившегося младенца. Ультразвуковое исследование, амниоцентез и другие тесты сообщают родителям о постоянно ра- стущем списке медицинских показателей их ребенка (на момент на- писания этой книги их существовало около 450). Врачи боятся не выполнять такие тесты, поскольку не желают столкнуться с судеб- ными исками за неполное информирование родителей о медицинских проблемах их не родившегося малыша в тот период, когда еще можно сделать аборт. Представьте, с какой практической дилеммой сталкиваются бе- ременная женщина и ее муж, возвратившись домой после приема у врача. Им только что сообщили, что у их ребенка возможны невроло- гические отклонения, которые могут иметь самые разные проявления, включая аутизм. Врач спросил у них, не желают ли они пойти на аборт. Как бы вы поступили? Чем бы обосновали свое решение? По- влияло бы на него известие о том, что ваша медицинская страховка не будет покрывать лечение недугов, обнаруженных во время тестов? По некоторым отчетам, 90 процентов супружеских пар, столкнув- шись с подобной дилеммой, абортируют своих не родившихся детей.10Рожать ли вам в этот мир ребенка, подобного Максу? И, если нет, то почему? А если вы узнаете о крайне недееспособном будущем своего ребенка через день или два после его рождения, и врач пред- ложит вам вариант со смертельной инъекцией, то как вы поступите? Насколько бы ни заслуживали похвалы учреждения, подобные школе Макса, зачем их содержать столь большой ценой, если в наших силах сделать их вообще ненужными? Шепот этого прагматичного голоса сегодня постоянно звучит в наших ушах. Решение человека, говорящего Максу «да» в настоящий момент и в будущем, может базироваться только на чем-то, что радикально отличается от анализа затрат и выгод. Как это ни трагично, сегодня многие решения, принимаемые в отношении жизни и смерти в Аме- рике и Европе, уже опираются на холодный расчет, выраженный в долларах и центах. Например, не так давно известная писательница феминистка Эми Ричардс, которая вынашивала тройню, запаниковала от мысли об изменениях в ее образе жизни. «Узнав о тройне, я по- думала: ‘Конечно, это не ‘залет’ в 16 лет, но теперь мне придется пе- реехать [из Ист-Виллиджа на Манхэттене] на Статен-Айленд. Мне придется безвылазно сидеть дома, чтобы присматривать за тремя детьми, а за покупками я буду ездить только в оптовые магазины и привозить оттуда громадные банки майонеза’».11 Эми Ричардс сочла все эти неудобства настолько для себя унизительными, что решила абортировать двух из детей, оставив только одного.
Г Л А В А 1 9
В марте 2004 года многие в Англии пришли в ужас, узнав о ре- бенке с «волчьей пастью», который был абортирован из-за «серьез- ной инвалидности» на 24-й неделе беременности, — сроке, когда он уже мог выжить вне утробы. Этот случай обратил внимание парла- мента страны на тот факт, что, начиная с 1990 года, неумолимо воз- растает число жизнеспособных младенцев, абортированных по той причине, что у них обнаружена «серьезная инвалидность». По- скольку термин «серьезная инвалидность» в законодательстве Вели- кобритании не определен, это значит, что любой ребенок с любой патологией — даже с той, которая поддается лечению, как, например, «волчья пасть», — может быть абортирован на любом сроке бере- менности.12 Естественно, что у сторонников абортов возникает во- прос — зачем вообще акцентировать внимание на состоянии зародыша? Почему бы не абортировать любого ребенка на свое усмотрение? Сегодня по этому поводу полным ходом идут дебаты.13
Это не просто умозрительные вопросы. Они связаны с глубоко личностными и мучительными решениями, с которыми нам прихо- дится сталкиваться в течение жизни. Когда я осматривал классную комнату Макса, водил пальцами по исцарапанной деревянной сто- лешнице парты, за которой он сидел каждый день, мои мысли быстро устремились в еще одном направлении логического развития фило- софии Сингера. Зачем сохранять людям жизнь, если они несчастны? Почему бы не дать им возможность стать донором органов и даро- вать жизнь кому-то другому? Если мы достигли точки, когда начи- наем соглашаться с этим, то почему бы просто не уничтожить страдающего человека? Именно этот вопрос лежит в центре яростных дебатов по по- воду исследований со стволовыми клетками эмбрионов. В конце кон- цов, эмбрион — это жизнь. Если можно убить жизнь, не имеющую ценности, то почему бы не использовать эти эмбрионы для получения лекарств от тех заболеваний, которые больше всего страшат цивили- зованный мир? Но если убийство эмбриона — не проблема, то почему бы не воспользоваться и частями тела младенца-инвалида, которого все равно ожидает смерть? Зачем понапрасну терять возможности? Разве мы не могли бы поспособствовать таким образом достижению максимального счастья максимальному числу людей? Помогая людям достичь лучшего качества жизни, мы максимизировали бы радость человечества. Это в точности та же самая логика. Где нам провести черту? Быть может, школы, подобные той, где учится Макс, однажды останутся в прошлом. Но кто станет следую-
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
щим? Заключенные, совершившие особо тяжкие преступления? По- чему они должны сидеть за наш счет в камерах смертников, годами ожидая рассмотрения своих апелляций? И, совершенно очевидно, мы не захотим вечно созерцать умственно неполноценных людей, попро- шайничающих на углах наших улиц, если есть возможность изба- виться от них. Или, все-таки, захотим? Мне 73 года. Как и Джон Эрлихман, проснувшись однажды утром, я могу узнать, что у меня почечная недостаточность, и какой- нибудь добрый доктор сердечно скажет мне: «Мистер Колсон, вы уверены, что хотите проводить каждое утро, подсоединяя себя к од- ному из этих аппаратов? Люди, которые используют их в домашних условиях, часто подхватывают губительные инфекции. Конечно, вы можете получать такое же лечение в больнице, но это подразумевает три визита в неделю по три часа каждый. Ваше качество жизни, ми- стер Колсон, быстро ухудшится. Хочу, чтобы вы знали, что мы можем решить эту проблему иначе, стоит вам лишь захотеть. На самом деле, это всего лишь продолжение терапии обезболивания — просто в какой-то момент мы дадим чуть больше морфия, и вы тихо уснете». Подумайте о тех огромных социальных вызовах, с которыми столкнутся медики, а также семьи и отдельные люди. Из-за выдаю- щихся технологических изобретений стоимость медицинского обслу- живания стремительно растет. Благодаря комбинированному использованию разных аппаратов, зать «уже можем», поддерживать Жизнь и смерть становятся вопросом выбора, а в некоторых случаях – предметом решения комитета по этике и принятых больницей правил жизнь человека почти независимо от его состояния. Но кто будет за это платить? Для семей это непо- сильно. Система доступного мед- обслуживания рухнет в течение нескольких десятилетий, по- скольку ее можно удержать на плаву только за счет значитель- ного увеличения налоговой на-
Г Л А В А 1 9
Эти вызовы уже присутствуют — и не только в Голландии, и в штате Орегон, где оказание помощи при самоубийстве легализовано, но и в сфере повседневного медицинского обслуживания в больницах по всей Америке и в западных демократических государствах. Новая доктрина под названием «бесполезная помощь» обеспечивает эвфе- мистическое прикрытие для эвтаназии. Например, один из моих друзей многие годы сильно страдал проблемами с легкими, и его жизнь становилась все более тяжелой. Хотя периодами он восстанавливал свои жизненные силы, обретая былые энергичность и жизнерадостность, ему все чаще приходилось прибегать к кислородной маске. Я не раз оказывался рядом с ним в такие моменты, и однажды меня вызвали, когда он был госпитали- зирован с особо сильным приступом. Его любящая жена сидела рядом с ним, читая ему Библию. Через несколько дней после того, как мой друг был госпитали- зирован, мне сообщили по телефону, что он мирно умер во сне. Только позже я узнал, что это была «прекрасная смерть», как ее на- звали родные и друзья покойного. После того, как близкие собрались возле кровати моего друга, чтобы попрощаться, врач вколол ему сверхдозу морфия, исполнив желание больного. Но была ли его смерть «прекрасной»? Или это была эвтаназия? А может, убийство? Кто может сказать наверняка? Безусловно, вопрос: «Кто может сказать наверняка?» — крайне важен. Если вы оказывались рядом с тем, кто страдает от серьезного заболевания, то знаете, с какими тяготами сталкивается семья, — все эти мучения, непрерывные бдения... У кого-то на задворках разума обязательно всплывает вопрос о цене: «Как мы за все это распла- тимся?» Друзья и родственники убиты горем из-за той боли, которую претерпевает близкий им человек. Они утомлены и изнурены. И вот, как добрый волшебник из сказки, появляется врач в белом халате — профессионал, посвятивший себя помощи людям и лечению больных. Все с нетерпением ожидают услышать от него, что им делать в этот ужасный, мучительный момент. Жизнь и смерть становятся вопросом выбора, а в некоторых случаях — предметом решения комитета по этике и принятых боль- ницей правил. Но кто решает, какой должна быть наша этика? Если истины не существует, то не может быть и никакой истинной этики — только продиктованные благоразумием стандарты, по которым ду- мающие люди пытаются жить. Поэтому даже самым доброжелатель- ным врачам в этом мире приходится делать выбор, неизменно помня о затратах больницы, в которой они работают. Осознавая страдания пациента, связанные стремлением помочь как можно большему числу людей и будучи втянутыми в матрицу подходов, оценивающих каче-
С Ч А С Т Л И В А Я Ж И З Н Ь
ство жизни, врачи становятся богами в белых халатах, вынося реше- ния, которые являются прерогативой одного лишь Бога. То, о чем размышляют про себя врачи, вполне вероятно, пере- кликается со взглядами Питера Сингера. «Если человек не оговорил, какие меры следует принять, пока был в состоянии это сделать, то ответственность за это возлагается на семью и комитет по этике, — говорит он. — Если родственники хотят положить конец жизни че- ловека с серьезным умственным расстройством или старика, в отно- шении которого врачи подтверждают практически нулевое качество жизни при полной невозможности восстановления, то, думаю, ле- тальная инъекция может быть оправдана».15 И это — слова человека, которого многие считают ведущим философом Америки.
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.137.181.52 (0.093 с.) |
 даже непреклонным постмодернистам приходится признать тупик, в котором они оказались из-за собственных убеждений.
даже непреклонным постмодернистам приходится признать тупик, в котором они оказались из-за собственных убеждений.


 права, посоветовав нам уйти в сто-
права, посоветовав нам уйти в сто-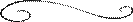 тому, чтобы что-то делать – зачастую, просто отвлекаясь от главного, – и сколько тому, чтобы кем-то быть
тому, чтобы что-то делать – зачастую, просто отвлекаясь от главного, – и сколько тому, чтобы кем-то быть рию западной цивилизации в просве- щенном XX веке. Возьмем, к примеру,
рию западной цивилизации в просве- щенном XX веке. Возьмем, к примеру,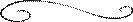 Величайшее зло больше всего ошеломляет тем, как часто оно является в личине добра, совершаемого в стремлении к, казалось бы, благородной цели
Величайшее зло больше всего ошеломляет тем, как часто оно является в личине добра, совершаемого в стремлении к, казалось бы, благородной цели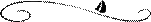
 принимаемые в отношении жизни и смерти в Америке и Европе, уже опираются на холодный расчет, выраженный в долларах и центах
принимаемые в отношении жизни и смерти в Америке и Европе, уже опираются на холодный расчет, выраженный в долларах и центах
 мы сможем вскоре, если не ска-
мы сможем вскоре, если не ска- грузки на работающих. Сейчас в Америке происходят кардинальные демографические перемены. Если на данный момент обеспечение од- ного человека по социальной программе медицинского облуживания оплачивают четыре работника, то к 2030 году их станет 2,3. Должны ли мы ожидать, что трудолюбивые представители среднего класса Америки будут отдавать постоянно возрастающую часть своих зара- ботков на то, чтобы поддерживать во мне жизнь, хотя ее «качество» (что за сомнительный термин!) все равно ухудшается?14
грузки на работающих. Сейчас в Америке происходят кардинальные демографические перемены. Если на данный момент обеспечение од- ного человека по социальной программе медицинского облуживания оплачивают четыре работника, то к 2030 году их станет 2,3. Должны ли мы ожидать, что трудолюбивые представители среднего класса Америки будут отдавать постоянно возрастающую часть своих зара- ботков на то, чтобы поддерживать во мне жизнь, хотя ее «качество» (что за сомнительный термин!) все равно ухудшается?14


