
Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Холон произведения искусстваСодержание книги
Поиск на нашем сайте Исторически теории искусства качались на волне действия и противодействия между двумя крайностями: то пытались определить первоначальный смысл художника, то, устав от этой по-видимому бесконечной задачи, искали какой-то другой способ интерпретации смысла искусства. Наиболее принято сосредоточиваться на самом произведении искусства, то есть на публичной стороне художественного творчества (картине, книге, исполняемой пьесе, мюзикле), которую мы будем называть просто холоном произведения искусства. Великая сила — и великая слабость — этого подхода состоит в том, что он напряженно сосредоточивается только на одном контексте: непосредственном восприятии публичной стороны художественного творчества. Все другие контексты выносятся за скобки или вообще игнорируются — намерения творца (сознательные или бессознательные), историческая обстановка и окружение, ожидания первоначальной аудитории, история восприятия и реакции — все это выносится за скобки, изымается из истории, удаляется из зала суда, когда дело доходит до суждения об успехе или провале произведения искусства. У этих теоретиков есть свои основания для подобных исключений. Как мы можем узнать, спрашивают они, каковы первоначальные намерения художника в отношении произведения искусства, если только не взглянем на само это произведение? Если у художника были намерения, которые не воплотились в произведении искусства, что ж, тогда художник, в этом отношении, просто потерпел неудачу — намерения, которые не претворяются в произведении искусства, по определению, не являются частью произведения искусства, и, потому, их можно и должно игнорировать (предполагать обратное — значит впадать в «интенциональное заблуждение»). И зачем нам даже спрашивать художника, что он имел в виду на самом деле? Точно так же, как вы и я — не всегда лучшие интерпретаторы наших собственных действий (что подтвердят наши друзья), так и художники не всегда бывают лучшими интерпретаторами своих собственных произведений. Таким образом, мы во всех случаях должны просто смотреть на само произведение искусства и судить о нем по его собственным законам как о целом: холоне произведения искусства. И именно так и поступают все теории художественного творчества. Они судят об искусстве как о реальном целом, и смысл произведения искусства, согласно им, следует искать во взаимоотношениях между элементами или особенностями самого произведения (то есть в отношениях между «субхолонами», составляющими произведение искусства). Мы уже кратко рассматривали несколько вариаций на эту тему: формализм, структурализм, неоструктурализм, постструктурализм, Новая критика — в приложении к музыке, изобразительным искусствам, поэзии, лингвистике и литературной теории. Несмотря на ограниченность этого подхода, его достоинства, тем не менее, вполне очевидны. Действительно, существуют элементы произведения искусства, которые относительно самостоятельны. Правда, что произведение искусства, на самом деле, является целым, которое также служит частью других целых. Однако аспекту «целостности» любого холона действительно можно уделять основное внимание; аспект целостности очень реален, очень подлинен. Различные формалистские и структуралистские теории по праву нашли постоянную опору в репертуаре признанных инструментов интерпретации именно благодаря акценту на аспекте целостности любого холона. Придерживаясь такой позиции, эти теоретики предложили ряд качеств, которые многие находят ценными в произведении искусства: такие критерии как связность, завершенность, гармония элементов внутри целого; но также уникальность, сложность, неоднозначность, глубина. Каждый из этих критериев говорит нам нечто интересное о самом холоне произведения искусства; ни один из них не следует исключать. И все же, в конечном итоге, мы не можем забывать, что каждое целое также является частью; оно существует в контекстах внутри контекстов внутри контекстов, каждый из которых будет присваивать новый и отличный смысл первоначальному цело Вообразите, к примеру, что вы наблюдаете карточную игру, скажем, покер. Все карты используются в соответствии с правилами, однако интересно, что ни одно из этих правил не написано на самих картах — ни одно из этих правил нельзя найти на поверхности карт. На самом деле, каждая из карт помещена в более крупный контекст, который управляет ее поведением и смыслом, и, следовательно, лишь более широкий взгляд может обнаружить и верно интерпретировать реальные правила и смыслы карты в этой игре. Сосредоточение лишь на самой карте приводит к полной потере правил и смыслов, которым карта подчиняется. Точно так же само содержание произведения искусства будет отчасти определяться различными контекстами, в которых возникает первичный холон, и в которых существует холон произведения искусства. Вот живой пример, который точно указывает на неадекватность сосредоточения лишь на одном холоне произведения искусства. Пара изношенных башмаков В своей статье «Происхождение произведения искусства» Хайдеггер интерпретирует картину Ван Гога «Башмаки», чтобы показать, что искусство может раскрывать истину. И в какой бы степени мы ни соглашались с этим общим выводом, путь Хайдеггера в данном конкретном случае являет собой замечательный пример того, как можно жестоко ошибаться, если игнорировать холонические контексты. На картине, к которой обращается Хайдеггер, изображена пара совершенно изношенных башмаков с развязанными шнурками, повернутая к зрителю. И это практически все; там больше нет никаких различимых объектов или предметов. Хайдеггер предполагает, что это пара крестьянских башмаков, и сообщает нам, что он может, обращаясь лишь к самой картине, вникнуть в суть ее послания: «Вокруг этой пары нет ничего, что могло бы сказать, с чем они связаны, лишь неопределенное пространство. На них нет даже прилипших комков земли с поля или сельской дороги, которые могли бы, по крайней мере, намекать на их использование. Пара крестьянских башмаков и больше ничего. И все же.» И все же Хайдеггер глубоко проникает в форму произведения искусства, как такового, и передает суть его смысла: «Из темноты изношенного нутра башмаков выступает утомленная походка труженицы. В грубой, плотной тяжести башмаков скопилось упорство ее медленного продвижения по простирающимся вдаль, бесконечно однообразным бороздам поля, продуваемого промозглым ветром. На коже башмаков осела влажность и насыщенность земли. Под подошвами проскальзывает одиночество вечерней дороги среди поля. В этой вещи трепещет безмолвный зов земли, ее тихий дар созревающего зерна и ее загадочное самопожертвование в заброшенности вспаханного под пар зимнего поля. Эта вещь пронизана безропотным беспокойством за судьбу урожая, безмолвной радостью очередного преодоления нужды, трепет перед явлением рождения и озноб от окружающей угрозы смерти. Эта вещь принадлежит земле, она защищена в мире крестьянки. Из этой защищенной принадлежности сама эта вещь возвышается до упокоения-в-себе».2 Это красивая интерпретация, красиво выраженная и заботливо погруженная в детали картины. Тем печальнее, что практически каждое высказывание в ней страшно неточно. Начать с того, что это башмаки самого Ван Гога, а не какой-то крестьянки. К тому времени он был городским жителем, а не сельским тружеником. Под подошвами башмаков нет ни пшеничных полей, ни медленного продвижения по неизменным бороздам, ни влажности земли, ни одиночества полевой дороги. Нельзя здесь найти ни капли, ни единого следа таинственного самопожертвования в заброшенности вспаханного под пар зимнего поля. «Картина Ван Гога есть раскрытие того, чем вещь, пара крестьянских башмаков, является в истине», — восклицает Хайдеггер. Может быть и так, однако сам Хайдеггер и близко не подошел к истине. В отличие от него мы должны — никоим образом не игнорируя соответствующие особенности самого холона произведения искусства — выйти за его пределы в более обширные контексты, чтобы полнее определить его смысл. Давайте для начала обратимся к замыслу творца как его описывал Ван Гог или, скорее, к тому, что он рассказывал вообще об обстоятельствах, приведших к созданию этой картины. Поль Гоген, деливший с Ван Гогом комнату в Арле в 1888 году, заметил, что Винсент хранил пару страшно изношенных башмаков, которые, похоже, имели для него очень важное значение. Гоген начинает рассказ:
Итак, Винсент начинает излагать историю этих стоптанных башмаков. «Мой отец, — сказал он, — был пастором, и по его настоянию я занимался теологией, дабы подготовиться к своему будущему призванию. В одно прекрасное утро я, ничего не сказав своей семье, в качестве молодого пастора отправился в Бельгию проповедовать на фабриках евангелие не так как меня учили, но так как я понимал его сам. Эти башмаки, как ты видишь, мужественно выдержали это утомительное путешествие». Но почему же именно эти башмаки были так важны для Винсента? Почему он так долго возил их с собой, такие стоптанные и изношенные? Оказывается, как продолжает Гоген, что «когда Винсент проповедовал шахтерам в Боринаже, ему пришлось ухаживать за жертвой пожара в шахте. Человек так сильно обгорел и был так изуродован, что у доктора не было надежды на его выздоровление. Лишь чудо, думал он, может его спасти. Ван Гог с любовью ухаживал за ним сорок дней и спас жизнь шахтера». Должно быть, это были незабываемые сорок дней, которые оставили глубокий след в душе Ван Гога. Шахтер так сильно обгорел и испытывал такие страшные боли, что доктор отказался от него, обрекая его на неминуемую и ужасную смерть. Более месяца Винсент находился у его постели. А потом на него снизошло видение, которое он описал своему другу Гогену, и которое объясняет, почему этот случай был так важен для него. Гоген начинает с самого начала: «Когда мы вместе жили в Арле, оба безумные, оба в постоянной борьбе за красивый колер, я обожал красный цвет; а где можно было найти идеальную киноварь? Он рисовал на стене своей желтоватой кистью, которая внезапно стала фиолетовой: Я един в Духе «В моей желтой комнате — один маленький натюрморт, тот, фиолетовый. Два огромных изношенных башмака. Это были башмаки Винсента. Те, что он надел в одно прекрасное утро, когда они были еще новыми, чтобы пешком отправиться из Голландии в Бельгию. Молодой проповедник только что закончил свою теологическую учебу, чтобы стать священником, как его отец. Он ушел на шахты к тем, кого называл своими братьями...» «В противоположность учению своих голландских профессоров, Винсент верил в Иисуса, который любит бедных; и его душа, глубоко пронизанная милосердием, искала утешительных слов и жертвенности для бедным и противостояния богатым. Несомненно, Винсент уже был безумен». «Винсент уже был безумен», — Гоген повторяет это несколько раз с изрядной иронией: все мы почли бы за честь прикоснуться к такому безумию! Затем Гоген рассказывает о взрыве в шахте: «Все окрасилось в ярко-желтый цвет, ужасное огненное сияние... Создания, которые выползали в этот момент наверх... в тот день говорили «adieu» жизни, прощались со своими товарищами... Одного из них, страшно изуродованного, с обгоревшим лицом, подобрал Винсент. «Однако», — сказал врач компании, — «этому парню конец, если только не чудо...» «Винсент, — продолжает Гоген, — верил в чудеса, в материнскую заботу. Этот сумасшедший (он определенно был безумен) сидел, неся вахту в течение сорока дней, у постели умирающего человека. Он упорно не позволял воздуху проникать в его раны и оплачивал лекарства. Священник-утешитель (он определенно был безумен). Пациент заговорил. Безумное усилие вернуло мертвого христианина к жизни». Шрамы на лице этого человека — он воскрес благодаря чуду заботы — выглядели для Винсента в точности, как шрамы от тернового венца. Винсент говорит: «В присутствии этого человека, который носил на своем челе несколько шрамов, у меня было видение тернового венца, видение воскресшего Христа». В этот момент, рассказывая Гогену свою историю, Винсент берет кисть и, имея в виду «воскресшего Христа», говорит: «И я, Винсент, я нарисовал его». Гоген заканчивает: «Он делал набросок своей желтой кистью, которая внезапно стала фиолетовой. Винсент воскликнул: Я — Святой Дух Решительно, этот человек был безумен».
И на верхнем краю спектра сознания — в высших состояниях сознания — разные люди в один голос говорят об осознании бытия единства со всем сущим, тождественности с духом, целостности в духе и т. д. Попытки более поверхностных психологии, таких как психоанализ, объявлять все эти высшие состояния обычной патологией, просто не выдерживают дальнейшей проверки и сопоставления с имеющимися данными. Напротив, вся совокупность межкультурных данных убедительно предполагает, что эти более глубокие или высокие состояния потенциально доступны всем нам, так что «сознание Христа» — духовное осознание и единение — доступно для любого и каждого из нас. Таким образом, трансперсональный психолог мог бы утверждать, что, какие бы другие интерпретации мы ни желали дать видению Ван Гога, все имеющиеся данные совершенно ясно предполагают, что это, весьма вероятно, было подлинное видение радикального потенциала во всех нас. Эти высшие состояния и видения иногда переплетаются с индивидуальными патологиями или неврозами, однако сами они, по своей сути, не патологичны; совсем наоборот, исследователи в один голос называют их состояниями необычайного благополучия. Так что само главное видение Винсента, скорее всего, вовсе не было ни патологическим, ни психотическим, ни проявлением безумия — вот почему Гоген постоянно посмеивается над теми, кто так думает: решительно, он был безумен. Что означает, что он, определенно, был погружен в реальность, о которой мы можем только мечтать. Так, когда Винсент сказал, что видел воскресшего Христа, это именно то, что он имел в виду, и это, скорее всего, именно то, что он видел. И поэтому он возил с собой как ветхое, но дорогое напоминание, башмаки, в которых он был, когда пришло это видение. Итак, как вы видите, важная часть первоначального смысла изображения этих башмаков — не единственного смысла, но первоначального смысла — очень проста: это башмаки, в которых Винсент выхаживал Иисуса, Иисуса во всех нас. Холон зрителя Какие бы мысли ни возникали в связи с этой интерпретацией, совершенно очевидно одно: чисто формальный подход (или подход, сосредоточивающийся только на произведении искусства) — к примеру, хайдеггеровский — упускает из виду важные смыслы полотна Ван Гога. Многих современников не удовлетворит моя трансперсональная интерпретация — а не было бы лучше, если бы я сказал, что Гоген заканчивает свой рассказ так: «И Винсент снова взял свою палитру; он работал молча. Я начал его портрет. Мне тоже было видение Иисуса, проповедующего доброту и смирение». Неужели мы, современные люди, слишком пресыщены для этого? Ну хорошо, если мы примем этот надличностный аспект интерпретации, мы можем легко принять и остальную часть рассказа — аварию на шахте, уход за человеком и т. д. — как обеспечивающую некоторые весьма важные контексты, которые придают разнообразные дополнительные смыслы самому холону художественного произведения (поскольку смысл, как всегда, зависит от контекста). Таким образом, разнообразные подходы, сосредоточивающиеся на самом произведении искусства (которые истинны, но частичны) страдают от того, что не замечают первичный холон (замысел автора на всех его уровнях и во всех измерениях). Но они также пытаются игнорировать и реакцию зрителя. В результате эти теории совершенно не могут объяснить ту роль, которую играет сама интерпретация в формировании совокупной природы искусства. Художник не десантируется на землю в изолирующей, антисептической и герметичной упаковке. И искусство, и художник существуют лишь в потоке истории, и потому первичный холон никогда не возникает на пустом месте, в чистом состоянии, сформированном только изолированным намерением художника. Так что нисколько не отрицая ни одного из других смыслов произведения искусства, от первоначального замысла творца до формальных элементов самого произведения, тем не менее, остается факт: когда я смотрю на произведение искусства, оно имеет смысл для меня. Каждый раз когда зритель видит произведение и пытается понять его, возникает то, что Гадамер столь точно называет «слиянием горизонтов» — или, как я бы сформулировал это, возникает новый холон, который сам служит новым контекстом и, следовательно, несет новый смысл. Очевидно, что смысл произведения искусства не пребывает исключительно в моей конкретной реакции на него. У остальных людей могут быть другие реакции. Но главное здесь в том, что смысл произведения искусства нельзя отделить от суммарного воздействия, которое оно оказывает на зрителей. А в более строгой формулировке, «зритель» попросту означает весь культурный фон, без которого смысл вообще не существовал бы и не мог бы существовать. Эта великая межличностная основа, этот культурный фон, предоставляет океан контекстов, в который, с необходимостью, погружены и искусство, и художник, и зритель. Даже когда художник только начинает работать над своим произведением, он держит кого-то в уме; какой-то зритель уже вырисовывается в его сознании, пусть даже отрывочно и мимолетно; интерсубъективный фон уже служит контекстом, в котором возникают его субъективные намерения. Таким образом, реакция зрителя уже участвует в формировании искусства. Культурный фон интерпретаций уже является частью самого склада произведения искусства. И когда произведение выносится на суд общества, оно попадает в поток дальнейших исторических интерпретаций, каждая из которых формирует еще один слой в этой временной и исторической жемчужине. И каждый из возникающих новых исторических контекстов будет наделять эту жемчужину новым смыслом, новым слоем, который, по сути, будет неотъемлемой частью самой жемчужины, целого, которое становится частью других целых и при этом меняется само. Возьмем достаточно грубый пример — те споры, что сегодня окружают экспедицию Колумба в 1492. Если мы на минуту подумаем о его экспедиции как о произведении искусства, тогда в смысл этого искусства? Всего несколько десятилетий назад смысл состоял примерно в следующем: Колумб был отважным человеком, несмотря на некоторые неблагоприятные обстоятельства предпринявшим рискованную экспедицию, которая открыла Америку — Новый Свет — и, тем самым, принесла культуру и цивилизацию довольно примитивным и отсталым народам. Сегодня многие склонны придавать этому другой смысл — Колумб был сексистом, империалистом, лживым и трусливым подонком, который отправился в Америку с целью грабежа и мародерства, и в ходе своей экспедиции приносил сифилис и другие напасти встречавшимся ему повсюду миролюбивым народам. Смысл исходного произведения искусства не только выглядит другим, он действительно другой и основан на последующей истории восприятия и реакции. Никак невозможно избежать этой историчности, этой определяющей природы интерпретаций. Последующие контексты будут придавать искусству новый смысл, поскольку смысл всегда и неизбежно связан со смыслом. И теории зрительской реакции в своих разнообразных формах фокусируются на этой истории реакции как образующей искусства. Таким образом, теории восприятия и реакции утверждают — как объясняет один критик, — что художественный смысл зависит «не от своего генетического происхождения в душе автора [изначального холона] и не от чисто внутренних отношений между напечатанными на странице знаками [формалистские теории], но от своего восприятия в последовательности прочтений, заставляющих историю его влияния, которая подчеркивает преходящий и исторический характер понимания и интерпретации».4 Частичные истины теорий зрительской реакции, безусловно, составляют неотъемлемую часть любой холонической теории искусства и его интерпретации. Но тем не менее, как и в случае любого из рассмотренных нами подходов, когда истинные, но частичные понятия этих теорий претендуют на роль полной и единственной истины, они становятся не только извращающими факты, но и просто смехотворными. И именно теории зрительской реакции вкупе с симптоматическими теориями почти полностью господствовали на постмодернистской художественной сцене — и в теории и на практике — тем самым приводя, как мы указывали выше, к все большим нарциссическим и нигилистическим шатаниям. Начнем с теорий «зрительской реакции».
Художественные критики всегда находились в слегка щекотливой ситуации — грубее ее называли «паразитической». Типичным был взгляд Флобера: «Критика занимает самое низкое место в литературной иерархии: почти всегда в том, что касается формы; и неоспоримо — в отношении «моральной ценности». Она идет вслед за буриме и акростихами, которые, по крайней мере, требуют определенной изобретательности».5 Прибавьте к этому паразитизму еще один неудобный факт: многие социологи отмечали, что для появления ребенка, рожденного в период демографического взрыва, характерен неистовый нарциссизм, а если что-то и типично для нарциссизма, так это стремление никому ни в чем не уступать. Из чего следует, что теория искусства и теория литературы в руках этого поколения становилась полным сумасбродством. Когда паразитизм сталкивается с претенциозностью, что-то должно уступить. Критике отчаянно требовалось перебраться с заднего сидения в кресло водителя. Средства для этого победоносного продвижения были обеспечены теориями зрительской реакции вкупе с симптоматическими теориями, совместно выступающими под общим лозунгом постструктурного постмодернизма. Если природа и смысл искусства пребывают исключительно в зрителе — «интерпретатор, а не художник создает произведение» — и если достоверна лишь сведущая интерпретация, тогда — «вуаля!»: все искусство создается лишь одной критикой. Итак, все пришло к тому, что реакция зрителя — то есть меня — стала «альфой и омегой» искусства, что поместила критика — то есть меня — в самый центр творческого акта, если не сказать — в самую сердцевину мира искусства. Так, Кэтрин Белей в своей «Критической практике» пишет: «Более не паразитируя на уже данном литературном тексте, критика выстраивает свой объект, создает произведение».6 Что, конечно же, оказывается новостью для большинства художников. Частичные истины теорий зрительской реакции стали платформой, которая обеспечивала (и обеспечивает) огромные дивиденды критику как единственному творцу. Затруднительная дилемма для постмодернизма этого сорта состоит в том, что он полностью и окончательно выводит из рассмотрения само произведение искусство, и, следовательно, кладет конец теории зрительской реакции, которой — оп-ля! — на самом деле, уже не на что реагировать. Если нет произведения искусства, на которое можно реагировать, остается одно лишь эго. Как недавно стали отмечать наиболее внимательные критики, все это вылилось в два почти неприкрытых направления экстремистского постмодернизма — а именно, в нигилизм и его скрытую суть — нарциссизм. Дэвид Кузене Хой замечает, что «освобождение критики от ее объекта» — то есть выведение из рассмотрения произведения искусства посредством подчеркивания реакции зрителя — «может сделать ее открытой для множества всевозможных домыслов; и все же, если... теперь нет никакой истины, которую можно было бы искать, тогда ничто не удерживает критику от того, чтобы уступить болезни навязчивого самосознания современного воображения». Таким образом, критика становится «лишь самоудовлетворением собственного эго критика». Культурой нарциссизма. «За этим следует открытая борьба за власть, и критика становится не скрытым, а явным выражением агрессии», частью «нарождающегося нигилизма нового времени».7 Эти теории зрительской реакции, как я сказал, были тесно связаны с симптоматическими теориями, наиболее влиятельными из них были марксистская, феминистская, расистская и империалистическая (постколониальные исследования). Как вы помните, их идея состоит в том, что смысл искусства заключен в фоновых социальных и экономических контекстах — контекстах, которые часто маскируются под власть и идеологию, и которые, следовательно, придают специфический смысл искусству, созданному в этих контекстах — смысл, который знающий критик может извлекать, подчеркивая и разъясняя конкретные фоновые структуры. Все это в достаточной мере истинно; и все ужасно частично, однобоко и искажено, когда берется само по себе в отрыве от всего прочего. Эти взгляды способствовали выдвижению концепции, получившей распространение благодаря ранним работам Фуко — что истина, как таковая, является культурно относительной и произвольной, опирающейся лишь на исторически меняющиеся вкусы или на власть, предубеждение и идеологию. Суть этих рассуждений такова: поскольку истина зависит от контекста, то она полностью соответствует меняющимся контекстам. Следовательно, любая истина — это культурная конструкция — социальная конструкция пола, социальная конструкция тела, социальная конструкция практически всего на свете — а поскольку К сожалению, само это воззрение претендует на универсальную истинность. Его сторонники делают ряд сильных утверждений, которые объявляют истинными для всех культур (относительная природа истины, контекстуальность утверждений, социальное конструирование всех категорий, историчность истины и т. д.). Таким образом, эта концепция провозглашает, что никакой универсальной истины вообще не существует за исключением ее собственной истины, которая является универсальной и всеобъемлющей в мире, где вообще ничто не может считаться универсальным и всеобъемлющим. Дело не просто в том, что эта позиция насквозь лицемерна и скрывает свои собственные структуры власти и господства; в качестве бесплатного приложения за ней снова поднимает свою чудесную ужасную голову неприкрытый нарциссизм. Однако контекстуализм, на котором базируются все эти симптоматические теории, не подразумевает ни произвола, ни релятивизма. Он подразумевает обусловленность контекстом, который ограничивает смысл. Другими словами, «контекст» означает «ограничения», а не хаос. Эти контексты не являются произвольными, субъективными, своеобразными, просто конструируемыми или радикально относительными в противоположность тем злоупотреблениям, которым подвергли эти теории экстремальные постмодернисты. Так, даже Фуко отказался от этого «чисто конструктивистского» подхода к познанию; он называл его «самонадеянным». И даже самый передовой интерпретатор весьма сильной версии историчности истины, предложенной Гадамером, мог бы объяснить, что «поскольку ни один контекст не абсолютен, возможны разные линии интерпретации. Но это не радикальный релятивизм, так как не все контексты в равной мере уместны и убедительны... Контекстуализм требует для интерпретации убедительных причин, и предполагается, что эти причины будут действительны и «объективны» в том смысле, как их формулирует любой объективист. [Поэтому] выбор контекста или структуры весьма далек от произвольного»8. Таким образом, смысл действительно зависит от контекста (есть только холоны!), однако это не означает, что смысл произволен или относителен; он прочно укоренен в разнообразных контекстах, которые его ограничивают. И, конечно, эти контексты — будь то в художнике, в произведении искусства, в зрителе или в мире в целом — должны сами по себе быть реальными контекстами, актуально существующими контекстами. Нам не разрешается произвольно выдумывать контексты; ни один дутый контекст не допустим. Скорее контекст, который используется для интерпретации, сам должен оправдываться всей взаимосвязанной совокупностью имеющихся данных. И это ставит многие симптоматические теории в крайне невыгодное положение, поскольку слишком многие из этих подходов выбирают очень специфический и зачастую очень узкий контекст и делают его единственным, доминирующим, первенствующим контекстом, в рамках которого должны рассматриваться все интерпретации, будь они империалистические, расистские, капиталистические, экологические или феминистские. Как я уже говорил, когда второстепенные истины раздуваются до космических масштабов, результаты, в большинстве случаев, оказываются смехотворными. Альфред Казин, недавно названный в «Нью Рипаблик» «величайшим литературным критиком в Америке», сообщает о типичной сцене — семинаре, посвященном творчеству Эмили Дикинсон, организованном Ассоциацией современного языка в 1989. Семинар назывался «Муза мастурбации», и, по словам Казина, «на него валили толпой», а обсуждаемая тема состояла в том, «что тайная стратегия поэзии Эмили Дикинсон заключается в использовании ею зашифрованных образов клиторальной мастурбации, чтобы выйти за пределы ограничений сексуальной роли, налагаемых патриархатом девятнадцатого столетия». Казин: «Основная идея состояла в том, что Дикинсон наполняла свои произведения упоминаниями о горохе, хлебных крошках и цветочных бутонах, чтобы передавать тайные послания, связанные с запрещенными онанистическими наслаждениями, другим просвещенным женщинам».9 Одно дело — выявлять контекст; совершенно другое — навязывать контекст. И симптоматическая теория, увы, в слишком большой мере представляет собой навязывание излюбленных контекста и идеологии критика при полном отсутствии подтверждающей истины доказательства или оправдания (поскольку, в конечном счете, никакой истины нет, а есть только социальные конструкции, зачем вообще беспокоиться о доказательствах?). И вот, исходя из бесспорного факта, что любая истина зависит от контекста, а все контексты безграничны, мы, в конце концов, кое-как добрались до головокружительной концепции: все истины Заключение Давайте перестроим постмодернистскую сцену более адекватным образом: контексты — это безграничные возможности; не многослойные обманы и произвольные конструкции, зависящие лишь от эгоической прихоти, но многослойные истины, укорененные в более обширных и глубоких реальностях. Нигилистический и нарцистический загиб ликвидируется с самого начала, и бессмысленный релятивизм сменяется богато структурированными контекстами ценности и смысла, которые дают основание для внятных интерпретаций. То, что все вещи — холоны, означает, что все вещи — это бесконечные контексты внутри контекстов, и каждый контекст придает новый и подлинный смысл самому первоначальному холону. Таким образом, определять местонахождение искусства — значит помещать его в его разнообразные контексты. Искусство в своем развитии, которое представляет собой охват, включает в себя:
Все это целые, которые служат частями других целых, а целое придает частям смысл, которым сами части не обладают. Каждое более широкое целое, каждый более объемлющий контекст приносит с собой новый смысл, новый свет, в котором видится произведение, и, следовательно, переиначивает его. Таким образом, любой конкретный смысл произведения искусства — это просто выдвижение на первый план некоего конкретного контекста. Интерпретация произведения искусства представляет собой выявление и объяснение этого выделенного контекста. Оправданная интерпретация означает подтверждение того, что конкретный контекст действительно реален и значим, это процедура верификации, которая, как и любая другая, включает в себя внимательное рассмотрение всей взаимосвязанной совокупности данных. А понять произведение искусства — значит герменевтически войти, реально войти как можно дальше в контексты, определяющие искусство, в «слияние горизонтов» — возникновение нового холона — в котором понимание произведения искусства одновременно является процессом самопонимания, в конечном счете ведущим к освобождению. Чтобы понимать искусство, я должен, до некоторой степени, входить в его горизонт, расширять свои собственные границы и, таким образом, расти сам: слияние горизонтов — это расширение самости. Следовательно, критерии достоверности для оправданной интерпретации искусства и литературы основываются, в конечном счете, на том, что критик считает природой и средоточием смысла произведения искусства. И я утверждаю, что это имеет холонический характер. Не существует единственной правильной интерпретации, пос
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-10; просмотров: 304; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.169 (0.017 с.) |

 му — смысл, который не очевиден и не может быть обнаружен путем рассмотрения самого индивидуального холона.
му — смысл, который не очевиден и не может быть обнаружен путем рассмотрения самого индивидуального холона.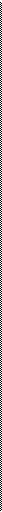
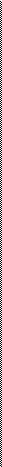



 «В студии хранилась пара подбитых гвоздями башмаков, изношенных и заляпанных грязью; он использовал их в замечательном натюрморте. Не знаю, почему я ощущал, что за этой старой реликвией стоит своя история, и однажды я осмелился спросить его, по какой причине он почтительно хранит рухлядь, место которой в мусорной корзине».3
«В студии хранилась пара подбитых гвоздями башмаков, изношенных и заляпанных грязью; он использовал их в замечательном натюрморте. Не знаю, почему я ощущал, что за этой старой реликвией стоит своя история, и однажды я осмелился спросить его, по какой причине он почтительно хранит рухлядь, место которой в мусорной корзине».3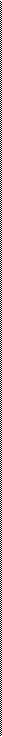
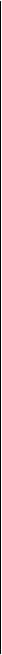
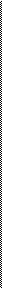 У психоанализа, несомненно, нашлись бы какие-то терапевтические интерпретации всего этого. Однако психоаналитические интерпретации, какими относительно верными они бы ни были, сами по себе не затрагивают таких более глубоких «сфер человеческого бессознательного» как экзистенциальная, духовная или надличностная. И, как я уже отмечал ранее, если мы обратимся к школе трансперсональной психологии, чтобы получить более тонкое и всестороннее представление о более глубоких измерениях человеческого осознания, мы найдем убедительное количество доказательств того, что человеческие существа имеют доступ к более высоким или глубоким состояниям сознания, находящимся далеко за пределами обычных эгоических форм — к спектру сознания.
У психоанализа, несомненно, нашлись бы какие-то терапевтические интерпретации всего этого. Однако психоаналитические интерпретации, какими относительно верными они бы ни были, сами по себе не затрагивают таких более глубоких «сфер человеческого бессознательного» как экзистенциальная, духовная или надличностная. И, как я уже отмечал ранее, если мы обратимся к школе трансперсональной психологии, чтобы получить более тонкое и всестороннее представление о более глубоких измерениях человеческого осознания, мы найдем убедительное количество доказательств того, что человеческие существа имеют доступ к более высоким или глубоким состояниям сознания, находящимся далеко за пределами обычных эгоических форм — к спектру сознания.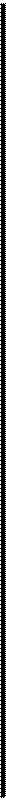 Скорее самому первичному холону даже в процессе его возникновения придает форму культурный фон. И этот культурный фон полностью историчен — он сам разворачивается в истории.
Скорее самому первичному холону даже в процессе его возникновения придает форму культурный фон. И этот культурный фон полностью историчен — он сам разворачивается в истории.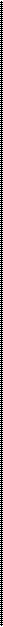 Чудо Я-Бытия
Чудо Я-Бытия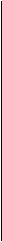


 любая истина культурно конструируется, нет и не может быть никаких универсальных истин.
любая истина культурно конструируется, нет и не может быть никаких универсальных истин.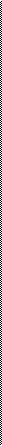

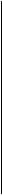
 чисто субъективны и относительны, произвольны и сконструированы. Истина — это все, что угодно. Это не оставляет нам совсем ничего, кроме нигилистической оболочки, густо напичканной нарциссизмом — постмодернистское пирожное из преисподней.
чисто субъективны и относительны, произвольны и сконструированы. Истина — это все, что угодно. Это не оставляет нам совсем ничего, кроме нигилистической оболочки, густо напичканной нарциссизмом — постмодернистское пирожное из преисподней.


