
Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Контексты внутри контекстов без концаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Мы живем в мире холонов. «Холоны» — это слово, которое предложил Артур Кестлер для обозначения целых, которые одновременно являются частями других целых: целостный кварк — это часть целостного атома; целостный атом — часть целостной молекулы; целостная молекула — часть целостной клетки; целост Другими словами, мы живем во вселенной, которая состоит не из целых и не из частей, а из целостностей/частей, или холонов. Ни целые, ни части не существуют сами по себе. Каждое целое одновременно существует как часть некоторого другого целого, и, насколько нам известно, это действительно бесконечно. Даже целостность вселенной прямо сейчас — это просто часть целостности следующего момента. Нигде во вселенной нет целых и частей; есть только целостности/части. Как я уже попытался предположить в «Краткой истории всего», это верно для физической, эмоциональной, ментальной и духовной сфер. Мы существуем в полях внутри полей, паттернах внутри паттернов, контекстах внутри контекстов... и так до бесконечности. Есть старый анекдот о короле, который приходит к мудрецу и спрашивает: «Как получается так, что Земля не падает?» Мудрец отвечает: «Земля покоится на льве.» «А на чем тогда покоится лев?» «Лев покоится на слоне.» «На чем покоится слон?» «Слон покоится на черепахе.» «А на чем...?» «На этом вы можете остановиться, Ваше Величество. Дальше вниз идут одни черепахи.» Дальше идут одни холоны, головокружительной чередой «матрешек», никогда не достигающей центра. «Постмодернистский постструктурализм», обычно ассоциирующийся с именами Жака Дерриды, Мишеля Фуко, Жана-Франсуа Лиотара и восходящий к Жоржу Батаю и Фридриху Ницше, всегда был величайшим врагом любого рода систематической теории или «великого повествования», так что от него можно было бы ожидать яростных возражений против любой общей теории «холонов». Однако более внимательное рассмотрение их собственных работ показывает, что в их основе лежит именно концепция холонов внутри холонов внутри холонов, текстов внутри текстов внутри текстов (или контекстов внутри контекстов внутри контекстов), и именно эта ускользающая игра текстов внутри текстов образует «безосновную» платформу, с которой они проводят свои атаки. Вот что пишет, например, Жорж Батай. «В самом общем виде (далее курсив его) каждый изолируемый элемент вселенной всегда выступает как частица, которая может входить в соединение с превосходящим ее целым. Бытие обнаруживается лишь как целое, состоящее из частиц, постоянно сохраняющих свою относительную автономию [часть, которая также является целым]. Эти два принципа [одновременная целостность и частичность] довлеют над изменчивым присутствием существа, как такового, в пространственных масштабах, которые никогда не перестают всё подвергать сомнению».4 Всё подвергается сомнению, потому что всё — это бесконечная череда контекстов внутри контекстов. А подвергать все сомнению — это именно то, чем известен постмодернистский постструктурализм. И вот языком, который вскоре станет вполне типичным (пока оставаясь вполне комичным), Батай продолжает, указывая, что «постановка всего под сомнение» противостоит человеческой потребности насильственно организовывать все в рамках подходящей целостности и самодовольной универсальности: «С крайним ужасом, властно переходящим в потребность в универсальности, доводимое до головокружения движением, которое его составляет, существо, как таковое, представляющее себя универсальным — это только вызов расплывчатой необъятности, которая избегает его случайного насилия, трагическое отрицание всего, что не является шансом его собственного озадаченного призрака. Однако как человек, это существо попадает в извилины знания своих собратьев, которые поглощают его субстанцию, чтобы свести ее к составляющей того, что выходит за рамки опасного безумия его автономии в тотальной тьме мира».5 Ох, и так далее. Дело не в том, что у самого Батая не было какой-либо системы, но просто в том, что система ускользает — холоны внутри холонов навсегда. Поэтому заявление «просто не иметь системы» звучит немного лукаво. Вот почему Андре Бретон, в то время лидер сюрреалистов, начал контратаку на эту сторону работы Батая тоже в терминах, находящих отклик у сегодняшних критиков-постмодернистов: «Беда Батая в рассуждениях: конечно, он рассуждает как некто, у кого «на носу муха», что ставит его ближе к мертвым, чем к живым, но он все же рассуждает. Он пытается, с помощью крошечного внутреннего механизма (который еще не полностью вышел из строя), поделиться своими навязчивыми идеями: сам этот факт доказывает, что он не может заявлять (чтобы он ни говорил), что находится в оппозиции к любой системе, как тупая скотина».6 В некотором смысле, правы обе стороны. Система есть, но она ускользает. Она бесконечно, до головокружения «холонична». Дальше — одни черепахи, что вверх, что вниз. Что деконструкция ставит под сомнение, так это желание найти окончательное место успокоения, будь то целостность, частичность или что-то посередине. Каждый раз, когда кто-то находит окончательную интерпретацию или основополагающую интерпретацию текста или произведения искусства (или жизни, или истории, или космоса), деконструкция не преминет сказать, что окончательного контекста не существует, потому что он также бесконечно и навсегда служит частью другого контекста. По словам Куллера, окончательный контекст любого сорта «недостижим как в принципе, так и на практике. Смысл ограничен контекстом, но контекст безграничен».8 Даже Юрген Хабермас, который, в общем, занимает позицию Бретона в отношении Батая, согласен с этим конкретным пунктом. По словам Хабермаса, «эти вариации контекста, изменяющие смысл, в принципе невозможно приостановить или поставить под контроль, поскольку контексты неисчерпаемы, то есть их нельзя раз и навсегда теоретически освоить».9 То что система скользит не означает, что невозможно установить смысл, что истины не существует, или что контексты не остаются в покое даже настолько, чтобы можно было высказать простое утверждение. Многие адепты постмодернистского постструктурализма не только обнаружили холоническое пространство, но и основательно в нем заблудились. Жорж Батай, к примеру, как следует долго и пристально вгляделся в холоническое пространство и буквально сошел с ума — хотя трудно сказать, что здесь причина, а что — следствие. Что до нашей главной темы, то нам нужно лишь отметить — система действительно существует, но она ускользает: Вселенная состоит из холонов — контекстов внутри контекстов внутри контекстов — от самого верха до самого низа. Смысл зависит от контекста Слово «коса» означает нечто совершенно разное во фразах «нашла коса на камень» и «коса расплелась». Именно поэтому любой смысл ограничен контекстом; идентичное слово имеет различные значения в зависимости от контекста, в котором мы его находим. Эта зависимость, похоже, пронизывает каждый аспект вселенной и нашей жизни в ней. Возьмите, например, единственную мысль, скажем мысль о том, чтобы отправиться в бакалейную лавку. Когда у меня появляется эта мысль, я, на самом деле, переживаю саму мысль, внутреннюю мысль и ее смысл — символы, образы, идею о том, чтобы пойти в бакалейную лавку. (Это Верхний Левый сектор, интенциональный.) Но внутренняя мысль имеет смысл лишь в рамках моего культурного фона. Если бы я говорил на другом языке, мысль состояла бы из других символов и имела бы совершенно другие значения. Если бы я существовал в первобытном племенном обществе миллион лет назад, мне и в голову не могла бы прийти мысль «пойти в бакалейную лавку». Это могло бы быть «пора убить медведя». Дело в том, что сами мои мысли возникают на культурном фоне, который придает структуру, смысл и контекст моим индивидуальным мыслям, и, разумеется, я не мог бы даже «разговаривать с собой», если бы не существовал в сообществе индивидов, которые тоже разговаривают со мной. (Это Нижний Левый сектор, культурный.) Таким образом, культурное сообщество служит внутренним фоном и контекстом для любых индивидуальных мыслей, которые могут прийти мне в голову. Мои мысли не залетают в голову просто из ниоткуда; они залетают мне в голову из культурного фона, и как бы далеко я не выходил за пределы этого фона, я никогда не смогу просто полностью избежать его, и без него у меня вообще никогда не смогло бы развиться мышление. Отдельные случаи «маугли» — людей, выращенных Дикими животными — показывают, что человеческий мозг, оставленный без культуры, сам не порождает лингвистического мышления. Короче говоря, мои индивидуальные мысли существуют только на обширном фоне культурных практик, языков, смыслов и контекстов, без которых я вообще не смог бы сформировать практически ни одной индивидуальной мысли. Однако сама моя Итак, моя предположительно «индивидуальная мысль», на самом деле, представляет собой холон, который содержит в себе все эти разнообразные аспекты — интенциональные, поведенческие, культурные и социальные. И мы движемся по холоническому кругу: социальная система будет сильно влиять на культурное мировоззрение, которое будет устанавливать границы для индивидуальных мыслей, которые могут прийти мне в голову, что будет отражаться в физиологии мозга. И мы можем идти по этому кругу в любом направлении. Они все взаимно переплетены, они все взаимно определяют друг друга. Все они причинно воздействуют на другие холоны, а те воздействуют на них в концентрических сферах контекстов внутри контекстов без конца. И этот факт имеет прямое отношение к природе и смыслу самого искусства. Что такое искусство? Простейший и, вероятно, самый ранний взгляд на природу и смысл искусства (и, следовательно, на его интерпретацию) состоит в том, что искусство подражательно или репрезентативно: оно копирует нечто в реальном мире. Картина ландшафта копирует или представляет реальный ландшафт. Платон придерживается этого взгляда в «Республике», где он использует пример кровати: рисунок кровати — это копия конкретной кровати (которая сама есть копия идеальной Формы кровати). В глазах Платона это заведомо ставит искусство в весьма незавидное положение — оно делает копии копий Идеала и потому вдвое дальше от него и вдвое менее ценно. Более поздние теоретики «улучшили» эту платоновскую концепцию, утверждая, что истинный художник, на самом деле, копирует непосредственно Идеальные Формы, видимые глазом разума, и, следовательно, создает «совершенное» художественное произведение — как сказал Микеланджело: «Красоту, которая волнует и возносит к небесам каждый глубокий ум». Аристотель аналогичным образом считал искусство подражательным или копирующим реальный мир, и в той или иной форме это понятие искусства как мимесиса обладало длительным и глубоким влиянием — смысл искусства в том, что оно представляет. Серьезное затруднение этого подхода, взятого в отдельности и как такового, состоит в том, что он явно предполагает — чем лучше имитация, тем лучше искусство, так что совершенная копия будет совершенным искусством, что недвусмысленно помещает искусство в область trompe l’oeil* и документальной фотографии: хорошая степень похожести на фотографии для водительских прав будет хорошим искусством. Кроме того, не все искусство репрезентативно или подражательно — сюрреализм, минимализм, экспрессионизм, концептуализм и т. д. Даже если некоторые виды искусства имеют репрезентативные аспекты, одним лишь мимесисом нельзя объяснить ни природу, ни ценность искусства. С расцветом Просвещения в Европе выходят на первый план две другие основные теории природы и смысла искусства, и обе они все еще достаточно влиятельны и поныне. Неудивительно, что эти теории должны были произойти, соответственно, от великого рационалистического и великого романтического течений, которые получили распространение в семнадцатом и восемнадцатом столетиях, и, будучи транслированы в художественную сферу, стали известны в общем виде как формализм и экспрессионизм (рациональное и романтическое!). И с этого момента вопросом стало не столько то, что такое искусство, сколько где искусство? Искусство — в творце Если природа, смысл и ценность искусства обусловлены не просто подражательной способностью искусства, то, быть может, суть искусства заключается в его власти выражать, а не просто копировать что-то. И действительно, как в теории, так и в практике искусства акцент часто начинал все больше смещаться от правдивого копирования, репрезентации и имитации — религиозных икон или реалистической натуры — к выразительной стороне искусства. Это происходило под широким влиянием основных течений романтизма. Это воззрение на искусство и его ценность наделили сильным и влиятельным голосом такие теоретики, как Бенедетто Кроче («Эстетика»), Р.Дж. Коллингвуд («Принципы искусства») и Лев Толстой («Что такое искусство?»). Вот основное заключение этих романтических теоретиков: искусство — это прежде всего выражение чувств или намерений художника. Это не просто имитация внешней реальности, но выражение внутренней реальности. Поэтому мы можем наилучшим образом интерпретировать искусство, пытаясь понять изначальный замысел творца самого произведения искусства (будь то художник, писатель или композитор). Так, Лев Толстой называл искусство «инфекцией души». То есть художник выражает чувство в своем произведении, которое затем пробуждает это чувство в нас, зрителях/читателях, и качество искусства наилучшим образом интерпретируется качеством тех чувств, которые оно выражает и которыми «заражает» нас. Для Кроче — несомненно, самого влиятельного эстетика 1900-х — искусство представляет собой выражение эмоции, которая сама по себе является весьма реальным и фундаментальным видом познания, часто космическим по своей мощи, в особенности, когда эмоция выражается и побуждается великими произведениями искусства. А Коллингвуд придал изначальному замыслу творца столь первостепенное значение, что действительным искусством должно было считаться само внутреннее, психологическое видение художника, независимо от того, было это видение переведено в публичные формы или нет. Этот взгляд на искусство как выражение изначального намерения, чувства или видения художника положил начало тому, что, возможно, до сих пор остается самой распространенной школой интерпретации искусства. Современная «герменевтика» — искусство и наука интерпретации — началась с определенных, воодушевленных романтиками философских тенденций, особенно у Фридриха Шлейермахера, а затем у Вильгельма Дильтея, и продолжается по сей день в работах таких влиятельных теоретиков, как Эмилио Бетти и Э. Д. Хирш. Этот подход — одна из старейших и, в некотором смысле, самых главных школ герменевтики — утверждает, что ключом к верной интерпретации текста (рассматривая «текст» в самом широком смысле как любой символ, требующий интерпретации, будь то художественный, лингвистический или поэтический символ) служит восстановление изначального намерения творца, психологическая реконструкция замыслов автора (или художника) в исходной исторической обстановке. Короче говоря, как утверждают эти подходы, поскольку смысл искусства — изначальный замысел творца, достоверная интерпретация связана с психологической реконструкцией и восстановлением этого изначального замысла. Герменевтический разрыв между художником и зрителем перекрывается в той степени, в которой существует «сходство во взглядах» с изначальным смыслом, вкладываемым в произведение художником, и это происходит через процедуры обоснованной интерпретации, базирующейся на восстановлении и реконструкции оригинала. Не случайно, что исторически параллельно теории искусства как выражения развивались обширные течения экспрессионизма в практике самого искусства. Экспрессионисты девятнадцатого века и постмодернисты, включая Ван-Гога, Гогена и Мюнха, напрямую противостояли реалистической и импрессионистской имитации натуры (Ван-Гог: «Вместо того, чтобы пытаться точно воспроизвести то, что у меня перед глазами, я использую цвет более произвольно, с тем чтобы выразить себя более убедительно»); далее следовали кубисты и фовисты (Матисс: «Я стремлюсь, прежде всего, к выражению (экспрессии)); далее Кандинский и Клее и абстрактный экспрессионизм Поллока, Клайна и де Коонинга. В своих разнообразных проявлениях экспрессионизм был не просто стилистической или идеализированной перестройкой внешней репрезентации (образности), но являл почти полный и тотальный разрыв с традицией имитации. Не успела появиться эта теория (и практика) искусства как выражения, как психоанализ — еще одно ответвление обширного романтического движения — указал, что многие человеческие намерения (интенции) фактически бессознательны. И далее эти намерения, хотя и бессознательные, тем не менее, могут в скрытых В сфере искусства и литературы это неизбежно означало, что у первоначального творца (художника, писателя, поэта), как и у любого другого, должны быть разнообразные бессознательные намерения, и эти намерения в скрытой форме будут оставлять свои следы в самом произведении искусства. Тогда из этого с математической точностью следует: (1) если смысл искусства — это изначальное намерение, выраженное в произведении, и (2) если правильная интерпретация, потому, является реконструкцией этого намерения, но (3) если некоторые намерения бессознательны и оставляют в художественном произведении лишь символические следы, тогда (4) важную часть правильной интерпретации произведения составляет обнаружение и интерпретация этих бессознательных порывов, намерений, желаний. Художественный критик, чтобы быть подлинным критиком, должен также быть и психоаналитиком. Искусство — в скрытом намерении: Это вскоре открыло ящик Пандоры «бессознательных намерений». Если произведение искусства выражает бессознательные фрейдистские желания художника, почему нужно ограничивать его фрейдистскими темами? В конце концов, в человеке существует несколько различных типов бессознательных структур, перечень которых вскоре произвел эффект взрыва. Марксисты указывали, что художник существует в окружении технико-экономических структур, и конкретное произведение искусства будет неизбежно отражать «базовые» экономические реалии — и, следовательно, верная интерпретация текста или произведения искусства включает в себя выведение на первый план классовых структур, в которых искусство создается. Вскоре горячка охватила феминистов, и они активно пытались доказать, что фундаментальные и скрытые структуры — это, в первую очередь, структуры пола, так что даже марксистами двигают бессознательные или слегка замаскированные намерения патриархальной власти. Вуменисты (цветные феминисты) очень быстро обошли с фланга основное течение феминизма, используя критику, которая, по сути, открывалась словами: «Мы не можем все сваливать на патриархат, белая девочка...» Итак, список пополнялся: расизм, сексизм, элитизм, спесицизм, антропоцентризм, андроцентризм, империализм, экологизм, логоцентризм, фаллоцентризм. Все эти теории лучше всего было бы назвать симптоматическими теориями: они рассматривают конкретное произведение искусства как симптоматическое проявление более крупномасштабных течений, которых художник зачастую не осознает — сексуальных, экономических, культурных, идеологических. В общем они допускают, что смысл искусства — это выражение исходного чувства, намерения или видения художника. Однако они сразу же добавляют, что художник может иметь структуры бессознательного намерения (или существовать в таких структурах), и эти бессознательные структуры, обычно недоступные осознанию самих художников, будут, тем не менее, оставлять символические следы в их произведениях искусства, и эти следы могут быть опознаны, расшифрованы и проинтерпретированы знающим критиком. Таким образом, достоверная интерпретация — это та, которая расшифровывает и выявляет скрытые намерения, будь они индивидуальными или культурными.
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-10; просмотров: 172; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.220.94.189 (0.009 с.) |





 ная клетка — часть целостного организма... В лингвистике целостная буква — это часть целостного слова, которое является частью целостного предложения, которое представляет собой часть целостного абзаца... и так далее.
ная клетка — часть целостного организма... В лингвистике целостная буква — это часть целостного слова, которое является частью целостного предложения, которое представляет собой часть целостного абзаца... и так далее.


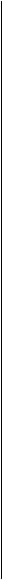


 Именно поэтому Джонатан Куллер — возможно, самый выдающийся интерпретатор деконструкции Жака Дерриды — может указывать на то, что Деррида не отрицает истину как таковую, но лишь настаивает на том, что истина и смысл ограничены контекстом (каждый контекст — это целое, которое также служит частью другого целостного контекста, который сам...). «Поэтому можно, — говорит Куллер, — отождествлять деконструкцию с двойным принципом контекстуальной детерминации смысла и бесконечной растяжимости контекста».7
Именно поэтому Джонатан Куллер — возможно, самый выдающийся интерпретатор деконструкции Жака Дерриды — может указывать на то, что Деррида не отрицает истину как таковую, но лишь настаивает на том, что истина и смысл ограничены контекстом (каждый контекст — это целое, которое также служит частью другого целостного контекста, который сам...). «Поэтому можно, — говорит Куллер, — отождествлять деконструкцию с двойным принципом контекстуальной детерминации смысла и бесконечной растяжимости контекста».7








 культура отнюдь не бестелесна и не болтается в идеалистическом пространстве между небом и землей. У нее есть материальные компоненты, точно так же, как у моих индивидуальных мыслей есть материальные мозговые компоненты. Все культурные события имеют социальные корреляты. К этим конкретным социальным компонентам относятся виды технологии, производительные силы (садоводческие, аграрные, индустриальные и т.д.), конкретные институты, писаные правила и образцы, геополитические положения и так далее (Нижний Правый сектор). И эти конкретные материальные компоненты — актуальная социальная система — играют решающую роль, помогая определять типы культурного мировоззрения, в рамках которого будут возникать мои собственные мысли.
культура отнюдь не бестелесна и не болтается в идеалистическом пространстве между небом и землей. У нее есть материальные компоненты, точно так же, как у моих индивидуальных мыслей есть материальные мозговые компоненты. Все культурные события имеют социальные корреляты. К этим конкретным социальным компонентам относятся виды технологии, производительные силы (садоводческие, аграрные, индустриальные и т.д.), конкретные институты, писаные правила и образцы, геополитические положения и так далее (Нижний Правый сектор). И эти конкретные материальные компоненты — актуальная социальная система — играют решающую роль, помогая определять типы культурного мировоззрения, в рамках которого будут возникать мои собственные мысли.

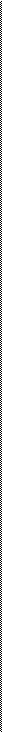


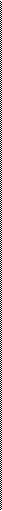

 формах пробиваться в повседневную жизнь, возможно, как невротические симптомы, символические сновидения, оговорки или, в общем, как компромиссные образования, выражающие конфликт между запрещенным желанием и силой, осуществляющей цензуру или вытеснение. Поэтому психоаналитик, обученный распознавать символическое выражение этих скрытых желаний, мог интерпретировать эти символы и симптомы индивиду, который, как мыслилось, в свою очередь, получал бы некоторое понимание и облегчение своего болезненного состояния.
формах пробиваться в повседневную жизнь, возможно, как невротические симптомы, символические сновидения, оговорки или, в общем, как компромиссные образования, выражающие конфликт между запрещенным желанием и силой, осуществляющей цензуру или вытеснение. Поэтому психоаналитик, обученный распознавать символическое выражение этих скрытых желаний, мог интерпретировать эти символы и симптомы индивиду, который, как мыслилось, в свою очередь, получал бы некоторое понимание и облегчение своего болезненного состояния.


