
Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Авдий и Гордей против бюрократовСодержание книги Поиск на нашем сайте
Ребенок мнет в руках глину, пальцы выдавливают вмятину. Что это? Ухо. Чье? Зайца. Значит, будет заяц. Но вылепить зайца он не может, снова сминает пластилин. А это что? Хвост. Чей? Лисы. Значит, слепим лису. Но неожиданно у лисы отрастает много лап — пусть тогда не лиса, а медуза. И т. д. и т. п. Для трехлетних детей это нормально. Но когда такое происходит с пяти-шестилетними — это тревожный сигнал. Значит, у них или рассеянное внимание, или нарушение координации движения, или повышенная тревожность — чаще всего все в комплексе. В данном случае «метонимическая» лепка, не приводящая к законченной работе, к результату, — свидетельство невроза. И моя задача — на каком-то этапе (опять-таки очень важно когда) прервать цепь бессмысленной работы, помочь ребенку получить хоть крошечный, но результат. Пусть это будет пресловутая змея или гриб, но чтобы простейшие предметы узнавались. Наличие одного такого ребенка в группе вынуждает иногда на долгий срок изменить систему занятий. Чтобы остальные дети от этого не пострадали, приходится конкретные задания облекать в игровую форму. Мне больше по духу импровизированные уроки, возбуждающие воображение и фантазию, но что поделать? Перевозбужденному ребенку с рассеянным вниманием нужны не фантазия (фантазий у него предостаточно), а моя помощь в организации согласованной деятельности. Он должен научиться продумывать последовательность этапов работы, ее план. В принципе это всем полезно, но важно, чтобы это было не только полезно, но и увлекательно. Приходится изощряться. Как-то к нам в студию пришли два брата-близнеца с вычурными именами: Авдий и Гордей. Мальчики с выраженной умственной отсталостью и птозом — болезнью глаз. Курчавые, большеротые, бледные, смотрят из-под опущенных век. Им повезло — завклубом записала их по анкетам, не глядя. Зато когда увидела, заявила: — Отчислить. Я бы не потерпела, чтобы в одном классе с моей дочерью учились такие дурачки. К тому же все преподаватели недовольны. Возражаю столь же решительно: — В один класс с вашей дочерью при всем желании они попасть не смогут. Пусть занимаются. Им это необходимо. Тогда завклубом держала меня за авторитет — и согласилась. Все сказанное про рассеянное внимание, отсутствие координации и прочее «имело место быть». Но меня беспокоило иное: как примут их дети? Как помочь Гордею и Авдию, не ущемляя интересов других?
Дети отреагировали на «странных» братьев нормально. А Машенька даже подружилась с Гордеем и Авдием. Когда Маши не оказывалось на занятиях, братья плакали от огорчения. К счастью, Машу водили достаточно регулярно. Как они радовались, когда у них что-то получалось. Гоготали громко, вопили, но, стоило Машеньке строго посмотреть на братьев, моментально стихали, брались за работу. Именно работу, поскольку для таких детей это не игра, а трудоемкая деятельность. Они работают во имя игры, но ни в коем случае не играючи. Не все шло гладко. Бывали и истерики — когда что-то долго делалось и случайно ломалось или когда у одного брата выходило, а у другого нет. Много и продуктивно поработал с ними педагог по развивающим играм Рустам. И он тоже отметил огромные сдвиги братцев. С музыкой дело обстояло иначе. Ни о каком пении и речи быть не могло: пока группа пела, мальчики ползали по полу. Вполне довольные, они возились под столом, изредка оглашая класс воплями. Дети же, не обращая внимания на братцев, распевали сочиненную вместе с Борисом Никитичем песню о кошке под дождем. Потом приходил черед мультфильмов. Присмиревшие братья смотрели на экран, слушали затаив дыхание, как Борис Никитич читает текст за всех персонажей. — Самое счастливое время в их жизни, — сказал Борис Никитич, глядя вслед детям, уходящим с урока. — Представляешь, что им предстоит! Да еще с этими дурацкими именами! Я бы их переназвал. Навсегда мне запомнится тот день, когда оба брата слепили настоящих птиц с крыльями из фольги! — Нет, правда, они сами это сделали? — не верила их мать.
— братья прыгали в восторге. Маша подтвердила кивком: да, они сами. Братья со всех ног бросились к Маше с поцелуями.
— вздохнула Маша и отерла щеки. Но главный методист из какого-то методического центра затребовал методику с поурочными планами! Иначе он не может допустить нас до работы. Методика еще куда ни шло, но поурочные планы! Какой был план урока, на котором Гордей и Авдий вылепили птиц с крыльями из фольги? Может быть, так сформулировать: «Птицы. С применением декоративного материала». Или: «Лепка птиц по сказке Андерсена «Гадкий утенок». Или: «Пернатые. Изготовление каркасов из проволоки».
А я не представила методисту поурочных планов. Значит, меня нельзя допускать до работы. Бедный Борис Никитич ездил к чиновнику, тот пригрозил, что доберется до меня. — Да напиши ты ему: «Слон. Собака. Кошка». Где твое чувство юмора?! — На некоторые предметы мое чувство юмора не распространяется. — Только не вздумай уходить, — сказал Борис Никитич. — Я тебе уже корону купил, на Новый год. Будешь у нас Забавой, царской дочерью. (Мы собирались ставить для детей на Новый год спектакль «Летучий корабль».) Там твоя излюбленная тематика. Будешь петь: «Свободу, свободу, мне дайте свободу, я птицею вдаль улечу!» Спектакль удался, и я «птицею улетела вдаль». Но об этом — в конце книги. Финалу место в финале.
31. Кустарь=одиночка Я — кустарь-одиночка. Так считает райфинотдел. По этой графе с меня взимают налоги. Что же за ценности произвожу я в уединении ремесленного труда? Разумеется, материальные, как и положено кустарям. По Далю, «кустарничество» — «дело мелочного, одинокого ткача». Что же мы, мелочные люди, ткем? Плохой и дешевый товар. В словаре Даля «кустарное изделие — самый плохой и дешевый товар, с виду похожий на фабричный и потому сбивающий цену». Видимо, поэтому упразднили первую в нашей стране студию эстетического воспитания, что была основана при школе искусств г. Химки Б. И. Будницким, — мы своей продукцией сбивали цену массовой, фабричной. Другого повода для уничтожения студии не было. Мне повезло: я начинала там, в прекрасном коллективе одержимых. Двести детей от четырех до семи лет строили, лепили, рисовали, играли, пели. Но главное, конечно, не в том, что они здесь делали, а в духе творчества, свободы, вдохновения, который царил на занятиях. Дух — это не продукция. Вдохновение руками не пощупаешь, а свободу на бухгалтерских счетах не обсчитаешь. На что нам эти эфемерности! Кустарю, кроме сырья, ничего не нужно. Следуя этой аналогии, педагогу, кроме детей, тоже ничего не нужно. Вывод: поскольку я осталась педагогом, поскольку при мне Остались дети, постольку нам было необходимо помещение.
Хорошо, кустари-одиночки сочинили методики. Не утверждают. Идеи не те? Да нет же — всем очень некогда. У всех — работа. У всех — срочная. А у нас — не срочная. Дети ждут? Подождут. Новоиспеченная завклубом пьет валерьянку перед тем, как войти с «методиками» в присутственное место. Три раза ездила безрезультатно. На четвертый позвала меня в помощь: «Потряси их там своими публикациями, особенно в «Известиях». К счастью, этого не пришлось делать. Мы долго пробивались на прием к чиновнику. Когда наконец вошли в кабинет, то я увидела замученного человека с воспаленными глазами. Он обреченно подписывал очередную бумагу. С какой тоской он посмотрел на меня, пришедшую с пачкой методических пособий!
— Хотите, — говорю ему, — вместо бумаг я вам сюда детей приведу, сотню малышей, и мы все наглядно вам покажем, как лепим, что лепим, для чего лепим? И человек улыбнулся. Это было так неожиданно, что я выронила бумаги на пол. Он их собрал, положил на стол, и мы втроем вышли из кабинета, дохнуть, как он выразился, воздуху. Оказывается, этот бюрократ и не бюрократ вовсе. Оказывается, он сюда пришел, чтобы хоть как-то эту рутину порушить, убедить бюрократов в нужности дела. Ничего не выходит! Для детской картинной галереи нет места во всей Москве, объединить разрозненные НИИ, занимающиеся дошкольным воспитанием, в единый методический центр — Институт детства тоже не выходит, для молодых педагогов не пробить клуба, где бы они могли хоть познакомиться друг с другом. Показал нам «бюрократ» списки потрясающих учителей, которые бы горы свернули, а сидят по жэковским подвалам, покуда их оттуда не выкинут за ненадобностью. Наш «бюрократ» много лет занимался с «отпетой шпаной» рисованием. Где бы он с ними ни обосновался — отовсюду гнали. Тогда ему и пришло в голову — занять пост, начать действовать сверху. — Получается? — Да ничего не получается! Каждый за свое место держится, на детей им плевать! С этими словами бюрократ-не-бюрократ нашлепал печатей на каждый лист нашей методички.
Прошло пять лет. Завклубовская дочка подросла. Чужие дети перестали интересовать. Шумят, пачкают мебель. Родители — того хуже. Рвутся проводить детей до класса, а сами — в грязной обуви. Потом мой за ними! Всё повторяется. Сказать бы в рупор, на всю страну: «Взрослые! Те, у кого от детей болит голова! Не занимайтесь устройством детского счастья! Сыщите другое поприще!» Установлено: у людей, не соответствующих занимаемой должности, быстро развиваются психосоматические заболевания. Они делаются вспыльчивыми, непоследовательными, раздражительными. Лучше обходить их кабинет стороной. Не попадаться им на глаза. Не обращать внимания... Стать выше этого... Знать бы только чего — «этого»! Думать о главном — мелочном труде своем. Пропускать все мимо ушей. Делать свое, невзирая на...
Захочешь — приспособишься. А если не захочешь?!
Пропало вдохновение Заболела Лара. Та самая, которая рассказывала историю про лесничего и браконьеров. Болеть одной скучно, а мама Лары занята невеселыми бракоразводными делами. Лара как-то разом посерьезнела, сделалась рассудительной. На смуглом лице — карие глазищи, утратившие привычный радостный блеск. Лара — ухоженная, в ушах золотые сережки, одета в импортное — смотрит мимо меня в стенку, навинчивает локон на палец. — А как вы думаете, вдохновение может пропасть? — Пропало? Лара наклоняет голову. — И давно? — С того момента, когда мы ехали с тетей Лидой в автобусе. Знаете тетю Лиду, из Театра Ермоловой? Мы ехали со спектакля, артисты, тетя Лида, мама и я. Звезды были на небе, и так было грустно, сразу в голове стали стихи, я боялась их забыть и сказала тете Лиде, а она записала. — А ты их помнишь? — Помню. Прочесть? — Лара встряхивает головой, откашливается, как настоящая актриса. — Ну значит, так:
В синем небе синеватом Млекло светилась звезда. И около черного леса Шли мы с тобою тогда. Кроткий шажок и походка, Облик на фоне звезды, Ты говорила тогда мне: Жди меня, жди меня, жди! Мы подходили к вокзалу, Млекло светилась звезда, И на прощанье сказала: Милый, люблю я тебя! Ты уезжала с вокзала, Млекло светилась звезда, И на прощанье сказала: Милый, люблю я тебя! Мы не встречались с тобою, Ты не вернулась тогда, Но облик звезды запоздалой Так не ушел никогда.
— Это я летом сочинила, за секунду буквально. А теперь хочется написать, и не выходит. Потому что пропало вдохновение. А как вы думаете, лучше жить с целью или без цели? Рассказываю Ларе про разные пути — путь созерцания и путь действия, преобразования. Лара слушает внимательно, отбирая, что ей подходит, а что — нет. — А я могла бы созерцать, как японцы или древние китайцы? — Да. У тебя богатое воображение, ты чувствительная, чуткая. Вот увидела звезду и написала стихи. — Вы меня утешаете или правда так думаете? — Правда так думаю. Хочешь, я тебе нарисую куклу, ты вырежешь и выдумаешь разные одежды? — Видите, какая у нас перестановка! (Мы переселяемся из кухни в комнату — подбираемся к больной теме.) Хорошо, что он ушел, — говорит Лара. — Ни капельки не жалко. И не грустно. — Погрустить иногда не вредно, — говорю, — но вырезать желательно поаккуратнее. — А я аккуратно! — Вот и хорошо. Лара вырезала куклу и теперь рисует для нее платье. А я думаю о стихотворении: атрибутика из мелодрам. Лара смотрит по телевизору взрослые фильмы, слушает разговоры мамы с подругами о превратностях любви. Но чувство передано с детской неподдельностью — горькое чувство утраты и верное знание: утраченная любовь не проходит бесследно. «Облик звезды запоздалой так не ушел никогда». Высший судья — в образе звезды — всё видит. Звезда — свидетель утраченного рая. — А вы когда-нибудь писали стихи? — Лара рисует юбку кукле. — Даже целых два стихотворения. Одно — в три года, второе — в пять.
— А потом вдохновение кончилось? — Нет, просто переселилось. — На лепку? Или на детей? — На всё. Знаешь, как сделать рыбные котлеты? Надо очистить рыбу от костей, от кожи и чешуи, перемолоть вместе с луком и хлебом, размоченным в молоке, прибавить взбитое яйцо, соль. — И жарить? — Да, но предварительно в фарш надо добавить ложку души. Так и во всё: в детей, в картины, в стихи, в разговоры — ложку души, и не ошибешься.
Лара демонстрирует мне куклу в красной юбке в складочку, на ремешке. — В этой — есть. — Тогда вы живете без цели, — заключает Лара, — раз вам все равно, на что тратить вдохновение. А великий скульптор, например, всю жизнь лепит такую большую скульптуру, чтобы прямо ресничка к ресничке, все точно, он хочет оставить это людям, чтобы стояло навеки и чтобы его все помнили, все, кто потом будут жить. — А если будет землетрясение и скульптура рухнет? Значит, тогда он зря жил и зря лепил на века, надежно, как ты говоришь, ресничка к ресничке. — Нет, она не рухнет. — Почему ты так уверена? Вот, например, сгорела Александрийская библиотека, и тысячи произведений великих античных поэтов погибли. Мы знаем о некоторых по уцелевшим отрывкам. А о существовании многих вообще ничего не знаем. А вдруг они-то и были самыми великими? Я не случайно озадачила Лару. Лара учится в спецшколе, среди элитарных детей, где господствует престижность. Лара рыдает из-за четверок, рвется в отличницы, в ней развиваются непомерные амбиции. Она мечтает о славе. А я ей упорно твержу: слава — дым. Ради нее не стоит уродоваться. — А зачем тогда люди пишут книги и рисуют картины, если все это может погибнуть? — Лара вырезала пиджак, и теперь кукла одета роскошно — прямой пиджак с отворотами и юбка в складку. — Потому что им нравится испытывать вдохновение. Они не могут без этого. — Тогда я буду детским врачом, а стихи буду писать когда сами получатся. И еще у меня будет много детей.
— Вот это другой разговор. — Серьезный? — Лара строго смотрит прямо мне в глаза. Она не любит манеру взрослых снисходительно обращать серьезное в шутку. — Не такой уж, — признаюсь честно. — Особенно про «много детей». В наше время трудно воспитать много детей. Лара знает: мне скоро на работу, а ей не хочется, чтобы я уходила, и она удерживает меня вопросами. — Может. — Если тренировать волю? — Как ты собираешься тренировать волю? — Например, когда хочется есть — не есть, хочется пить — не пить. — Попробуй. Если выйдет что-нибудь путное — позвони, может, и я рискну. — А в какое время можно звонить? — В любое. Особенно когда не захочешь звонить — вот еще одно упражнение для тренировки воли. Лара закрывает за мной дверь. Жаль оставлять ее, да ничего не поделаешь. Теперь она будет ждать маму, прислушиваться к звукам лифта. Помню, как я ждала отца, стоя у окна в комнате общежития. Он все не шел и не шел. В каждом чудился отец, я замирала, но это был не он, и снова не он... В общежитии было полно народу, но я боялась выйти из комнаты — вдруг папа пройдет, а я его не увижу — и мечтала, чтобы кто-нибудь заглянул ко мне, сказал бы «Эй, ты, выше нос!» или что-нибудь в таком роде. Или, предел мечтаний, посидел бы со мной, поразглядывал мои любимые открытки. Но никто не приходил, и я все ждала у окна. Мне было десять лет, как сейчас Ларе. Я помню, как тревожно в лиловые сумерки смотреть с пятого этажа в заснеженный город, где столько людей, и среди их множества нет одного-единственного человека, которого ждешь...
Мы с Марой «Мы с Марой» — формула детства. О наших с Марой приключениях — мои повести «Рыжий муравей» и «Золотце» (М.: Сов. писатель, 1978 и 1982). Мара — мой первый авторитет. Щуплая прыщавая двоечница, к тому же старше меня на пять лет, она была окружена ореолом высшей справедливости. Именно она держала меня в постоянном поисковом режиме. Ее грубость, вредность, плутовство не шли в сравнение с ее главным качеством — отчаянной смелостью. Я же с малолетства была трусовата и без Мары на отчаянные предприятия не шла.
Сколько слез пролили мы с ней, когда наши предприятия терпели фиаско! Бездомных собак тетя Сима, Марина мать, и на порог не пускала. Никакие слезы не помогали. А вот цыплятам, что мы купили в зоомагазине, не воспротивилась. «Вырастим и съедим», — заявила тетя Сима. Поняв, какая угроза нависла над нашими питомцами, мы собрали их в корзину и поехали за город, на электричке. Там, не помню, на какой уж станции, но точно помню, что на пустыре, мы и выпустили на волю наших облезших птенчиков. На обратном пути мы спохватились, что ведь и за городом сыщутся любители курятины. Переполненные горем, мы затемно вернулись домой, где нас ожидало возмездие. Мару побили, а меня просто наказали запретом дружить с «девочкой не моего возраста». Однако в условиях коммунальной квартиры разлучить нас с Марой было невозможно. Разумеется, меня, опекаемую немкой-воспитательницей, играющую с учительницей английского в лото на четырех языках, посещающую уроки ваяния и зодчества, могла воспитать только отчаянная Мара. С ней мне открывалась непридуманная жизнь, Мара «проводила меня через разное», а мне приходилось самой делать нравственные выводы из наших вовсе не всегда красивых поступков. Своими выводами я с ней не делилась — она бы подняла меня на смех. Мара не страдала рефлексией, как напичканные «культурой» дети. Так что действовали мы сообща, а переживала я последствия деяний наедине со своей совестью. Моя недетская образованность вызывала насмешки всей Мариной семьи. И особо — ее главы, тети Симы. Частенько я напрашивалась к ним обедать. Перед обедом тетя Сима разыгрывала представление. Ставила меня на стул и требовала низким грудным голосом: — А теперь, майне пуппен, прочти нам стихотворение. И не успевала я рта раскрыть, чтобы произнести: «Майне пуппен ист кляйн, майне пуппен ист шён» («Моя кукла — маленькая, моя кукла — красивая» (нем.)), как мама Мары закатывалась от смеха. Две старшие сестры Мары и тетя Тоня, тети-Симина сестра из Саратова, вторили ей. Но сколько бы надо мной ни смеялись, я дочитывала стихотворение до конца, защищая честь Луизы Вольдемаровны. Это она обучала меня немецким стихам. После «коронного номера» все чинно обедали. Еда была вкусной, особенно маринованные овощи, которые именовались пикулями. Муж тети Симы погиб на войне. Наверное, потому считалось зазорным обучать немецкому. Потому так и смеялись над «Майне пуппен», что в те годы немецкая речь, особенно в семьях, где были погибшие, сделалась противной слуху. Ее хотелось осмеять, унизить. К тому же тетя Сима считала вздором и блажью моих родителей «все это интеллигентское воспитание». «В доме хоть шаром покати, ни еды, ни одежды, заморят ребенка». Кроме нас на этаже жило пять больших семей. Азербайджанцы, русские, армяне, евреи, украинцы, грузины — разветвленную сеть соседских отношений не смог бы распутать даже опытный резидент**. Мара ориентировалась в них прекрасно. «Шпионила» Мара на нашей огромной кухне. Выведывая очередные новости, она не забывала заглядывать в кастрюли. Мара сообщала мне, у кого намечается «вкусненькое», и мы с ней, под предлогом телевизора, наведывались к соседям на ужин. В особенной чести тогда были сосиски. И если тетя Надя с дядей Сеней их варили (а они все делали сообща, толкались вдвоем на кухне, к неудовольствию соседей), то мы с Марой являлись к ним в гости вовремя. Сосиски еще не успевали остыть. Я уже говорила — укоры совести жгли меня после, в одиночестве. И как-то я с ним справлялась. Зато без Мары не одолеть бы мне ни одну из тех преград, что расставляет судьба. ** Как долго издаются книги! Пока рукопись дошла до типографии, в мире многое изменилось. И не все к лучшему. В моем доме детства больше нет армян. Им едва удалось уцелеть при погромах. Соседку с первого этажа ударили утюгом, со второго этажа — кипятком обварили, а наши соседи с третьего спаслись бегством. Погромщики — это тоже наши дети. Дети, которым никто никогда не рассказывал ни дома, ни в школе о геноциде и антисемитизме, никто никогда не показывал документальные фильмы ужасов о жертвах газовых камер и турецкой резни. В четырех штатах Америки программа «Геноцид и еврейская катастрофа» обязательна для школьников. Дети, понимающие, сколько горя принесли миру геноцид и антисемитизм, не вырастут расистами. Наша школьная программа эти понятия даже обзорно не включает. При неразвитом воображении убивать и громить легко.
Ежевика в Набрани Дачное место, неподалеку от Баку, называлось Набрань. Говорят, теперь там много туристов, дачников. В мои детские годы Набрань не была обжита. Дикий лес, рощи грецких орехов, оливковых деревьев, река в лесу, море с хрустящим под ступнями берегом — всевозможные ракушки, мелкая галька, песок. Набрань — рай на земле. Мы с Марой вкушали его плоды как в прямом, так и в переносном смысле. Утром, не успев продрать глаза, мы убегали за калитку. Бесстрашные амазонки, мы рыскали по лесу в надежде найти что-то. Но что? «Давай обрыскаем под батареей», — как-то предложила дочь. На вопрос, что она намеревается там найти, дочь ответила неопределенно. Она не знала, и мы с Марой не знали тоже. Первая находка — грибы. Прежде грибы мы видели только сушеные, их присылала тетя из Саратова. А тут — живые, и росли они на стволе поваленного карагача. Их было подозрительно много, и Мара сказала: «Поганьё!» Оказалось — настоящие опенки. Съедобные. И мы их нашли! Два дня ели, угощали всех соседей. Насладились полезной находкой, что дальше? Решили изменить маршрут поисков, двинулись за огороды, в поле. Верблюжьи колючки зигзагами торчали из растрескавшейся глинистой почвы. На этом поле ничего не найти. Но что это? Колючий кустарник с выгоревшими бесцветными листьями усеян черными и фиолетовыми ягодами. — Это отрава, не прикасайся! — предупредила Мара. Сколько же этой отравы, и какая она красивая! Тайком от Мары я сорвала две ягоды, спрятала в карман. Вдруг Мара ошиблась — назвала же она съедобные грибы поганьем. И точно. Хозяйка сказала, что это ежевика. Прекрасная ягода. Мы с Марой паслись за огородами, я собирала — мне запретили есть с куста, а Мара набивала полный рот, глотала ежевику не разжевывая, и ничего с ее животом не делалось. Это было неиссякаемое поле, скатерть-самобранка, разве что варенья оно не варило. Варенье наварила бабушка из собранных ягод. На следующий год, как только прибыли в Набрань, мы с Марой бросились на наше поле. Оно было перепахано, в комковатой земле росли зеленые листья. Ни верблюжьих колючек, ни кустика ежевики. Запаханные наши с Марой угодья — первое острое чувство утраты. Мара выдернула из земли листья вместе с чем-то бурым. — Свекла, гадость какая, — хоть бы морковку посадили. Но мне не хотелось морковку, а реквием по ежевичному полю я исполнила тотчас, вернувшись на дачу. Это был рисунок чернилами, я его не помню, но помню, с каким остервенением (другого слова не подберешь) я рисовала. Перо продирало бумагу. Рисунок Мара сдала учительнице по рисованию. Им задали тему «Лето». Рисовать Мара не любила. «Сойдет и твоя мазня», — сказала она. И поплатилась за подлог. Ее выбрали художником в стенгазету. — Я просила тебя стараться, просила? — кричала она на меня. Больше моих рисунков она не сдавала. Из художников ее уволили быстро. Да и я не стала художником.
35. "Евгений Онегин" и заяц в профиль В детском творчестве мы почти всегда имеем дело с «комментированием». Вот рисунок пятилетнего Саши. На нем — два лица-овала, вверху — оранжевый, с красными точками глаз в голубом ожерелье, оранжевым носом и ртом с черными зигзагами — зубами; внизу — с красными глазами, носом и ртом восьмеркой. Что это такое? А вот что: «Знак, что надо чистить зубы». «Человек вверху — четырнадцать раз (число слез, и, значит, не ожерелье, а голубые слезы из зареванных красных глаз) чистил зубы, все остальное — не чистил, потому зубы болят и он плачет. Человек внизу — восемь раз не чистил зубы, а остальное — чистил, потому он веселый. Рот восьмеркой — потому что восемь раз не чистил, а зубов черных не нарисовано — потому что нижний чистил зубы чаще верхнего, и они у него не почернели». Поняли бы вы замысел пятилетнего автора рисунка, если бы он не рассказал нам, что все это значит? Замысловатость цифровых расчетов — свидетельство того, что ребенок осваивает азы математики, учится составлять задачи. Снабдив графический лозунг соответствующей подписью, мы получили бы оригинальный плакат на сангигиеническую тему. Любому ребенку, пришедшему в поликлинику, он был бы интереснее тех картинок, что висят у нас в детских медицинских учреждениях. Пятилетний Илюша К. нарисовал куб в виде развертки. Как он додумался до развертки? А просто — поворачивал куб разными гранями и пририсовывал по грани. Огорчился ли он, что у него не вышло похоже? Нисколько! Он убежден, что вышел в точности такой куб, как в натуре. Истоки всевозможных «измов» — в детстве. Думаю, Брак и Пикассо ничего не выдумали — в основе лежал их детский опыт. Иначе бы возникновение кубизма как течения не было бы органичным для искусства. Как-то я составила список всевозможных течений в изобразительном искусстве и отобрала детские работы, строго отвечающие принципу каждого из течений. Это было убедительное зрелище. Дети лепят людей без ступней и ладоней. Почему? Разве они, такие наблюдательные, их не видят? Видят — и не придают им значения. Одна мама рассказывала мне, что ее дочь упорно не рисовала пальцы на руках человека. Мама была образованной и знала, что это трактуется как отсутствие контактности. Но стоило поиграть с дочерью в волейбол, как на рисунке объявились пальцы. Что говорит, разумеется, не о нарушенном и восстановленном контакте, а лишь о том, что девочка, подкидывая и ловя мяч, «осознала» свои руки и они тут же выявились. Мане не удалось нарисовать человека с натуры. Вышло непохоже. И вот как она отреагировала на неудачу: утром спросонья нарисовала серию рисунков про человека, который пришел к художнику.
«Приехал в чужую страну незнакомец. Зашел к художнику. Художник нарисовал его портрет и выдал ему. А он закричал: что ты нарисовал! Ведь у меня рот намного ниже! Что я за урод! Я не такой! Пошел к своему знакомому домику. Попросил его: «Открой дверку!» Тот открыл — он вошел в комнату, смотрел телевизор, ходил там и пел. Он пытался изобразить нормального человека».
Вот насколько значимо для ребенка искусство! Оно одушевлено и имеет власть над людьми! «Изобразительные» дети любят «рассказывать» свои рисунки, но они понятны и без комментариев. Передо мной три рисунка шестилетней дочери, нарисованных друг за другом. На первом — девочка в коляске выронила мяч из рук. Для того чтобы нарисовать падение мяча, выдуман такой ход: один мяч — вровень с коляской, другой, копия первого — у колес. От первого мяча ко второму — дугообразная стрелка, указывающая, что мяч падает сверху вниз. Она не знала, как изобразить движение мяча.
Третий рисунок — мяч летит в воздухе. Видно, что он летит. Потому что нарисованы два мальчика в профиль с поднятыми руками: один уже бросил мяч, а второй готовится его поймать. Можно было бы ограничиться и формальным обозначением движения. Ребенка это не устраивает. Он рисует, чтобы понять и выразить осмысленное. Третий рисунок удовлетворил дочь. А вот анекдотическая история про связь слова с изображением. Читаю «Евгения Онегина» с иллюстрациями Н. В. Кузьмина. На обложке Татьяна в кресле и коленопреклоненный Онегин. Маня просит почитать вслух. Но стоило начать, как она прервала меня. — Подожди! Не читай, я бумагу возьму. Неужели она что-то уловила в тексте и это «что-то» собирается нарисовать? — Все, давай дальше. Маня — за столом, спиной ко мне. Читаю, как Онегин собирается на бал. Наверное, думаю, она рисует бал. Но я ошиблась.
Благодаря «Евгению Онегину» Маня сделала скачок от фасового изображения к профильному, затем она поняла, что можно развернуть изображение на 180 градусов и показать его противоположную сторону, затем закрепила открытие «тиражированием». За двадцать минут под чтение «Евгения Онегина» она из раба двухмерного пространства превратилась в его властелина. Подозревал ли Н. В. Кузьмин, что иллюстрированный им «Евгений Онегин» откроет новую эру в творчестве девочки Мани?
Деревья на ветру Дочь беспрестанно рисует. Все рисунки она показывает нам. Мы ее хвалим, и есть за что. Ее девочки с волосами до плеч — автопортреты, хотя она и не замышляла рисовать себя. Просто все выходят похожими на нее — веселые, с челкой, с глазами вразлет, бегают, прыгают, варят обед, гуляют по лесам с зайцами и мышами, с котами и тиграми. Вечное обилие народу в нашем доме определило наполненность композиций — все семьями, люди и звери, все втянуты в общий хоровод жизни. Но вот однажды она сказала:
Я решила, что ослышалась. «У меня больше не выходит, как раньше», — уточнила она. На ее языке это значило: «Я разучилась дышать». Оказалось, дочь жаловалась не понапрасну. В тех рисунках, что предшествовали открытию «Я разучилась рисовать», пропало существенное — целостность. Значит, ребенок может оценивать себя, стало быть, ведает, что творит. «Плохие» рисунки — следствие внутреннего разлада. Негармоничное, разорванное выходит из-под рук тогда, когда дети либо больны, либо по какой-то причине теряют целостное видение мира, и всё начинает «сыпаться»: рисунок превращается в набор необязательных элементов, каждый из которых может быть и удачным, но вместе они не образуют художественного целого. — Не рисуется — лепи, — предложила я ей. — Не обязательно все время рисовать. И Маня увлеклась лепкой. Дом заполняли собаки. Их было великое множество, с вытянутыми носами, остроухих, спящих в коробках, сидящих под столом на половике из пластилина, — натуральные собаки, все одной, неизвестной породы. Затем в пластилин стали внедряться гвозди, скрепки, нитки — все, что попадалось под руку, становилось деталью очередной «скульптуры». Я принесла глину домой и вдруг заметила, что у Мани замашки монументалиста: она все лепила огромным, ангела — так с крыльями величиной в ладонь, высоченное привидение. Глины хватило на пару дней. Затем, за неимением глины, она стала вырезать из бумаги и клеить здоровенных мышей и ворон, дом с трубой и т. д. Сообразила бы она без моей подсказки взяться за лепку? Как случилось, что дочь в свои пять с половиной лет обнаружила творческую несостоятельность?
Скульптура — прекрасный предмет для вникания в подробности. К тому же в ней нет обязательного объединяющего начала для множества предметов. Собака может быть одна, и мышка одна, это уже вещь, с нею можно играть, определять собаку на ночлег, кормить слепленной сосиской. С рисунком — не поиграешь. Наигравшись, Маня снова вернулась к рисованию. Рисунки изменились. В них появилась пластика. Практически к шести годам дочь достигла полной свободы в воплощении замысла. Дальше новый рубеж — переход к живописи. Цветные фломастеры, которыми она пыталась передать живописное пространство, быстро были вытеснены акварелью. Пошла череда пейзажей. Деревья — кроны, надетые на стволы, как меховые шапки, между ними — оранжевая река, в ней плавает солнце — небо оранжевое, и вода оранжевая — в ней отражается солнце. Пошли живописные портреты — огромные, на ватманский лист. Она определенно понимает, что делает, но не понимает, почему она так делает, почему уходит от графики к живописи, почему ее уже не устраивает черно-белое пространство.
Этот пример последовательности, открытого творческого акта. С сыном — иначе. Подготовительные этапы он проходит как бы в уме. Не знаю, как Федя пришел к новому для него языку выражения, но вижу готовый результат. Пейзаж: на переднем плане высокие муравейники, вокруг кружатся черные птицы-галки, в углу — черное солнце. Второй пейзаж — «Деревья на ветру» — выполнен черной тушью и охрой. В нем передано тревожное состояние природы, ее беззащитность перед стихией. Обе ра
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-10; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.131.103 (0.022 с.) |



 Все это тоже было, но главное было в том, что умственно отсталые дети, с больными глазами, вылепили птиц, похожих на птиц, да еще с серебряными крыльями! Это в какую графу занести? Именно из-за отсутствия графы (после всех наших трудов!) братьев исключили из студии.
Все это тоже было, но главное было в том, что умственно отсталые дети, с больными глазами, вылепили птиц, похожих на птиц, да еще с серебряными крыльями! Это в какую графу занести? Именно из-за отсутствия графы (после всех наших трудов!) братьев исключили из студии. Оно нашлось. И энтузиастка тоже нашлась. Организовывалась новая студия, с новыми педагогами. Осталось — утвердить методики. Без утвержденных в инстанциях методических пособий — по любому предмету — работать нельзя. Мысль о том, что методика создается в процессе работы, недопустима. Сначала — план, затем — реализация. Наоборот не бывает.
Оно нашлось. И энтузиастка тоже нашлась. Организовывалась новая студия, с новыми педагогами. Осталось — утвердить методики. Без утвержденных в инстанциях методических пособий — по любому предмету — работать нельзя. Мысль о том, что методика создается в процессе работы, недопустима. Сначала — план, затем — реализация. Наоборот не бывает. Завклубом была на вершине счастья. Сулила нам, педагогам, сущий рай: каждому отдельный класс — любых детей, не только из ведомственных домов, расписание — удобное для каждого и полную свободу творчества.
Завклубом была на вершине счастья. Сулила нам, педагогам, сущий рай: каждому отдельный класс — любых детей, не только из ведомственных домов, расписание — удобное для каждого и полную свободу творчества.
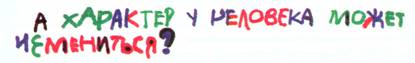
 Дружба детей бескорыстна. Она основана на магнетическом притяжении. Факторы образованности, различия социальных сред и прочее для детской дружбы не имеют ни малейшего значения.
Дружба детей бескорыстна. Она основана на магнетическом притяжении. Факторы образованности, различия социальных сред и прочее для детской дружбы не имеют ни малейшего значения.
 После того как человека нарисовали не таким, он перестал быть самим собой, допортретным. Потеряв себя по вине бездарного художника, ему осталось одно — изображать из себя нормального человека.
После того как человека нарисовали не таким, он перестал быть самим собой, допортретным. Потеряв себя по вине бездарного художника, ему осталось одно — изображать из себя нормального человека. Следующий лист — две девочки крутят веревочку, а мальчик подпрыгнул. Мальчик висит над веревочкой, видно, что он прыгает. Изображены предметы (девочки), относительно которых предмет движется.
Следующий лист — две девочки крутят веревочку, а мальчик подпрыгнул. Мальчик висит над веревочкой, видно, что он прыгает. Изображены предметы (девочки), относительно которых предмет движется. В кресле, в профиль, сидит заяц — Татьяна, а у ее ног Онегин — мышка. Был ли «Евгений Онегин» виной тому, что Маня впервые в жизни нарисовала зверей в профиль? Неужели стих (его вдохновенная строфа) толкнул мою дочь на открытие? Под первую встречу Татьяны с Онегиным она нарисовала целый выводок мышей и армию зайцев, теперь изображенных зеркально.
В кресле, в профиль, сидит заяц — Татьяна, а у ее ног Онегин — мышка. Был ли «Евгений Онегин» виной тому, что Маня впервые в жизни нарисовала зверей в профиль? Неужели стих (его вдохновенная строфа) толкнул мою дочь на открытие? Под первую встречу Татьяны с Онегиным она нарисовала целый выводок мышей и армию зайцев, теперь изображенных зеркально.

 Случилось так потому, что она вдруг задумалась не о том, что изображает, а о том, как это «что» изобразить. И растерялась. Новое средство — скульптура — помогло ей иначе осмыслить форму.
Случилось так потому, что она вдруг задумалась не о том, что изображает, а о том, как это «что» изобразить. И растерялась. Новое средство — скульптура — помогло ей иначе осмыслить форму.



