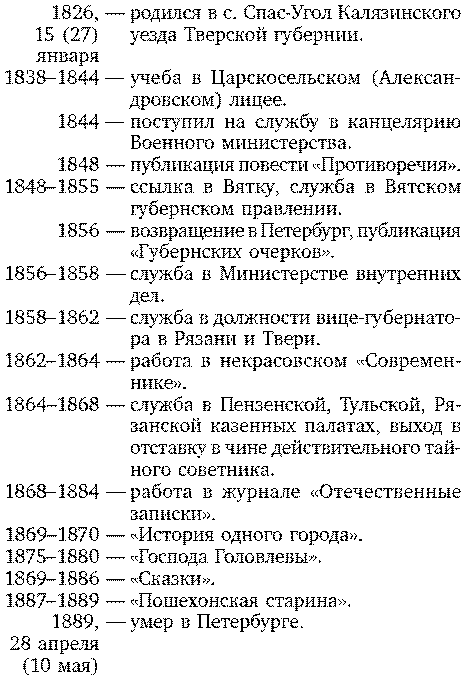Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Основные даты жизни и творчества. «история одного города»Содержание книги
Поиск на нашем сайте
«История одного города» (1869–1870)
ИСТОРИЯ: ГЛУПОВ И РОССИЯ
Книга Салтыкова писалась в славное десятилетие, почти одновременно с великими И‑романами, но предложила свой, очень отличающийся от тургеневского или толстовского, образ времени. Шестидесятые годы, эпоха «Великих реформ», были (или казались?) похоронами «прошлых времен». По мановению руки нового императора крепостные крестьяне стали вольными хлебопашцами, появились новые суды, пошли реформы в армии, получила относительную свободу печать. Вернувшиеся с каторги немногочисленные декабристы воспринимались как обломки далекого прошлого. Л. Н. Толстой сочиняет «Войну и мир» как роман исторический (хотя и вырастающий из осознания «рифмы» той и этой эпох). «Наши бабушки» – называет статью о нем женщина‑критик М. К. Цебрикова. Историк П. И. Бартенев с 1863 года начинает издание журнала «Русский архив». Другой историк, знаменитый С. М. Соловьев, в конце шестидесятых годов приближается к двадцатому тому «Истории России с древнейших времен». «Человечество расстается с прошлым, смеясь…» Расставания, однако, не получилось. Не прошло и десятилетия, как для наиболее проницательных свидетелей эпоха великих реформ превращается во время обманутых надежд и упований. В конце шестидесятых годов, после выстрела Каракозова в царя‑освободителя, прошлые времена напоминают о себе. Вот почему лирик и насмешник А. К. Толстой, один из создателей образа Козьмы Пруткова, вместе с историческим романом и драмами сочиняет комическую «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868). Обозревая в 83 четверостишиях русскую историю от новгородского посадника до современного ему министра внутренних дел, «худой смиренный инок, раб божий Алексей» приходит к выводу, известному еще летописцу Нестору: «Земля наша богата. Порядка в ней лишь нет». В это же время Сатирический старец, которому недавно исполнилось всего сорок лет, предлагает свою версию истории. Итак, в городском архиве найдена связка тетрадей под названием «Глуповский Летописец», сочинение четырех архивариусов, соратников Нестора: Мишки Тряпичкина (однофамильца или даже родственника того газетчика Тряпичкина, которому посылает письмо Хлестаков), да Мишки Тряпичкина другого, да Митьки Смирномордова, да смиренного Павлушки Маслобойникова сына. Как и положено летописи, глуповская тоже начинается с основания – если не мира, то государства. В главе «О корени происхождения глуповцев» Щедрин, подражая «Повести временных лет», иронически использует запев «Слова о полку Игореве», мимоходом задевая современных историков («Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под облакы, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по древу…»), и предлагает свое решение «варяжского вопроса», оживленно обсуждавшегося историками в шестидесятые годы. Устав от бесконечных войн, от абсурдной суеты по установлению хоть какого‑то порядка, головотяпы призывают князя, закладывают на болотине новый город, называют его Глуповым, «а себя по тому городу глуповцами». Наконец, после неудачного управления новой вотчиной через посредников‑воров, князь прибывает в Глупов собственной персоной и вопит: «Запорю!» «С этим словом начались исторические времена», – констатирует летописец. «Писаной» истории Глупова Щедрин отводит примерно столетие, послепетровское столетие новой российской государственности, как и шестидесятые годы, исполненное великих надежд и огромных разочарований. Нижняя граница охваченной глуповскими летописцами эпохи (1731) условна, верхняя (1825), напротив, символична. Это год выступления декабристов и восшествия на престол Николая I, царствование которого казалось современникам безнадежно‑бесконечным. «В этом году, – иронизирует Щедрин, – по‑видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною». Композиционным стержнем «Истории одного города» является короткая «Опись градоначальникам, в разное время в город Глупов от вышнего начальства поставленным». Многие глуповские правители охарактеризованы только в ней. Кроме того, в этой описи упоминаются исторические имена, привязывающие глуповскую историю к истории государства Российского. Бирон, всесильный фаворит императрицы Анны Иоанновны, способствовал утверждению двух первых градоначальников: Клементия он вывез из Италии за искусную стряпню макарон, а Ферапонтов был его брадобреем. Великанов пострадал за любовную связь с Авдотьей Лопухиной (на самом деле ее звали Наталья) в царствование Елизаветы Петровны («кроткия Елисавет»). Несколько имен связаны с эпохой Екатерины Великой. Ламврокакис был пойман на базаре графом Кирилою Разумовским, фаворитом Екатерины II. Фердыщенко оказывается денщиком еще одного екатерининского фаворита – князя Потемкина. Маркиз де Санглот представлен как друг Дидерота, то есть французского философа‑просветителя Д. Дидро, с которым императрица состояла в переписке. Потом наступает черед Александровской эпохи. Негодяев умышлял что‑то против либеральных деятелей H. Н. Новосильцева, А. Е. Чарторыйского и П. А. Строганова. Беневоленский учился в гимназии с М. М. Сперанским (он появляется и на страницах «Войны и мира») и потворствовал Наполеону. Грустилов дружил с Карамзиным. Однако таких имен‑поплавков, позволяющих из глупов ской «истории» вынырнуть в историю России, не так много. Важнее другое. Глуповские градоначальники определенно напоминают самих российских императоров или особ, приближенных ко двору. Прямому указанию Щедрин предпочитает эзоповский сатирический намек. Картина глуповского междоусобия в главе «Сказание о шести градоначальницах» гротескно воспроизводит перипетии русской истории XVIII века с чередой дворцовых переворотов, последовательно приводивших на престол Екатерину I, Анну Иоанновну, Елизавету Петровну, Екатерину II. В Негодяеве обычно опознают Павла I. В сладострастном Микаладзе и слащаво‑чувствительном Грустилове отразились разные эпизоды биографии Александра I. Перехват‑Залихватский напоминает Николая I. Угрюм‑Бурчеев по созвучию фамилий и по роду своей «нивелляторской» деятельности напоминает о графе А. А. Аракчееве, всесильном временщике александровского царствования, энтузиасте военных поселений, а портретно сходен с тем же Николаем I. Проекция глуповской истории на историю России – продуманная и далеко идущая салтыковская игра. По предположению исследователя творчества Щедрина Г. В. Иванова, даже число глуповских градоначальников (двадцать два, с пропущенным девятнадцатым номером) соответствует количеству русских правителей от Ивана Грозного, который первым официально венчался на царство, до Александра II, правившего во время сочинения «Истории одного города». Столетие глуповской истории размыкается, таким образом, в обе стороны. В него помещается вся писаная российская история от первых шагов государственности (варяжский вопрос, принятие христианства) до реалий и событий шестидесятых годов (издатель в примечаниях всякий раз заботливо отмечает «анахронизмы» летописцев, вроде изобретения электрического телеграфа, упоминания «лондонских агитаторов» Герцена и Огарева, железнодорожных концессий и губернских правлений). Можно долго играть в угадайку, предполагая, какой поворот, пируэт российской истории трансформирует Щедрин в очередном эпизоде своей сатирической летописи. Некоторые современники писателя читали «Историю одного города» только под таким углом зрения: Салтыков смеется над историей. «Историческая сатира» – называлась статья‑рецензия А. Б‑ова (под этим псевдонимом скрывался А. С. Суворин, в те годы – либеральный публицист, позднее – консервативный и удачливый издатель газеты «Новое время», перекрещенной Щедриным в «Чего изволите?»). «Смеяться над историей грешно и бесполезно, автору надо бы знать ее получше» – таков был педагогический пафос рецензента. В ответ Щедрин отправил в журнал «Вестник Европы», где появилась статься Суворина, большое письмо. «Не „историческую“, а совершенно обыкновенную сатиру имел я в виду, сатиру, направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают ее не совсем удобною. Черты эти суть: благодушие, доведенное до рыхлости, ширина размаха, выражающаяся, с одной стороны, в непрерывном мордобитии, с другой – в стрельбе из пушек по воробьям, легкомыслие, доведенное до способности не краснея лгать самым бессовестным образом. В практическом применении эти свойства производят результаты, по моему мнению, весьма дурные, а именно: необеспеченность жизни, произвол, непредусмотрительность, недостаток веры в будущее и т. п.», – объяснял и объяснялся писатель. «Большая», реальная история оказывается для Щедрина, таким образом, лишь формой и поводом для построения образа истории глуповской. Художественная задача писателя много сложней «исторической сатиры».
ОДИН ГОРОД: ВРЕМЕНА И НРАВЫ
Город Глупов имеет странную топографию и географию. В главе «О корени происхождения глуповцев» летописец утверждает, что он заложен на болотине. Через него протекает речка, в которой во время бунтов глуповцы топят Прошек да Ивашек и борьбу с которой ведет в последней главе книги Угрюм‑Бурчеев. Но в другой главе, «Обращение к читателю от последнего архивариуса‑летописца», говорится, что город «имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается». Третьим Римом, как известно, называли Москву, которая, по легенде, стоит на семи холмах. В главе «Войны за просвещение» Глупов и вовсе представлен городом‑государством, вроде греческих полисов, вступающим в дипломатические отношения с соседями: «Выгонные земли Византии и Глупова были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из этого выходили беспрестанные пререкания». Бородавкин же за десять лет до своего прибытия в город сочиняет проект о возвращении «древней Византии под сень российский державы». Не менее экзотичен и административный статус Глупова. Градоначальников сюда присылает вышнее начальство. Однако ведут они себя вовсе не как правители маленького уездного городка (вроде того, в котором городничий принимает Хлестакова за ревизора), а как полновластные самодержцы: сочиняют проекты и законы, свергают друг друга, воюют, путешествуют по покоренным провинциям. Глупов, таким образом, стоит одновременно на болотине и на семи холмах, имеет то три реки, то одну; оказывается то безвестным уездным городишкой, то государством, империей, вроде Римской или Российской. Это обобщенный образ – «сборный город» (как говорил Гоголь о месте действия своего «Ревизора»), город‑гротеск (как определил его литературовед Д. П. Николаев), представляющий щедринскую модель глубинных закономерностей российской истории. Психологи утверждают, что исходной точкой формирования коллектива, человеческого сообщества является противопоставление «мы – они». Салтыков‑Щедрин выявляет архетип, основной конфликт глуповской истории, заключающийся в вечном противопоставлении двух сил: градоначальников и простых глуповских жителей, обывателей. «Не забудем, что летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни, которая и доныне считается стоящею как бы вне пределов истории, – объясняет издатель Щедрин в начале главы „Поклонение мамоне и покаяние“. – С одной стороны, его умственному взору представляется сила, подкравшаяся издалека и успевшая организоваться и окрепнуть, с другой – рассыпавшиеся по углам и всегда застигаемые врасплох людишки и сироты. Возможно ли какое‑нибудь сомнение насчет характера отношений, которые имеют возникнуть из сопоставления стихий столь противоположных?» На фоне конфликта этих двух стихий – организованной государственной машины и слабого, растерянного общества – различия между глуповскими мужиками, мещанами, военными, интеллигенцией становятся несущественными. Все они – глуповцы, застигаемые врасплох, подчиненные общим условиям исторической жизни. Градоначальники и глуповские людишки – коллективные, собирательные образы, являющиеся основой поэтики Щедрина (таковы господа Молчалины и господа ташкентцы, помпадуры и помпадурши, пошехонцы и пр.). Они представлены в галерее тоже достаточно условных, обобщенных, гротескных персонажей. К привычному для русской литературы тщательному бытописанию и живописанию характеров Щедрин в «Истории одного города» не прибегает вовсе. Способ взаимодействия между полюсами глуповского мира задан в главе «О корени происхождения глуповцев». Исторические времена, как мы помним, начинаются с крика первого князя: «Запорю!», «Разорю!» и «Не потерплю!» – произносит затем органчик‑Брудастый. «Одеть дурака в кандалы!» – гаркает на старика‑правдолюбца Евсеича бригадир Фердыщенко. Реплику «Разорю!» подхватывает в войнах за просвещение Бородавкин. Увенчивается ряд глуповских властителей Угрюм‑Бурчеевым, который действительно разрушает город, перекрывает реку, пытается остановить жизнь вообще. Любопытно, что у города нет внешних врагов (хотя Бородавкин и мечтает покончить с Византией). Все воинственные усилия градоначальников направлены против собственных подданных. Появлением солдат заканчивается голодный бунт. Та же солдатская песня слышится после глуповского пожара. Глуповское просвещение, заключающееся во внедрении горчицы и устройстве под домами каменных фундаментов, тоже производится огнем и мечом. Живописуя нравы глуповских самодержцев, Щедрин открывает своеобразную тенденцию. Эпохи увольнения от войн, возрастание обывательского благополучия и спокойствия происходят в тех случаях, когда занятые любовными подвигами и амурными делами градоначальники удаляются от дел государственных. Микаладзе отменяет просвещение и связанные с ним экзекуции, отказывается издавать законы. И глуповцы вскоре перестают сосать лапу и начинают водить хороводы. Неутомимый доктринер Беневоленский не может победить своей страсти, но придумывает замечательную теорию «средних законов». «Средние законы имеют в себе то удобство, что всякий, читая их, говорит: какая глупость! а между тем всякий неудержимо стремится исполнять их. Ежели бы, например, издать такой закон: „всякий да яста, то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждения». И под сенью «Устава о добропорядочном пирогов печении», в «сумраке законов» глуповцы тучнеют все больше и больше. Лучшим правителем в глуповской истории оказывается Прыщ. Его либерализм простирается настолько далеко, что предполагает полную автономию «государства» и «общества». «Ну, старички, – сказал он обывателям, – давайте жить мирно. Не трогайте меня, а вас не трону. Сажайте и сейте, ешьте и пейте, заводите фабрики и заводы – что же‑с! все это вам на пользу‑с! По мне, даже монументы воздвигайте – я и в этом препятствовать не стану! Только с огнем, ради Христа, осторожней обращайтесь, потому что тут не долго и до греха, имущества свои попалите, сами погорите – что хорошего!» План кампании Прыща заключается в одном слове, прямо противоположном привычному для города «разорю!», – «отдохнуть‑с!». И благодаря отдыху от государственных тягот благосостояние глуповцев многократно возрастает: роятся пчелы, тучнеет скот, на столах не переводится настоящий хлеб, появляется досуг и «способность исследовать и испытывать природу вещей». В ироническом контексте в главе «Эпоха увольнения от войн» появляется вполне серьезное и важное понятие «самоуправление». Однако на Прыще глуповские самоуправление, либерализм и благополучие заканчиваются. Самым лучшим в истории города правителем оказывается начальник даже не с органчиком, а просто с фаршированной головой! Но его съедают подчиненные (Щедрин остроумно реализует в сюжете стертую языковую метафору). В замечательном романе Андрея Платонова «Чевенгур» (этот платоновский город – один из прямых наследников города щедринского) упоминается о старой книжке, будто бы изданной в 1868 году, как раз во время работы Салтыкова над первыми главами «Истории одного города». Ее автор, выдуманный Платоновым Николай Арсаков, учил: «Люди очень рано почали действовать, мало поняв. Следует, елико возможно, держать свои действия в ущербе, дабы давать волю созерцательной половине души… Достаточно оставить историю на пятьсот лет в покое, чтобы все без усилий достигли упоительного благополучия». Но оставить в покое глуповскую историю не удается. После промежуточных фигур Иванова, дю Шарио, Грустилова в городе появляется зловещий Угрюм‑Бурчеев, и борьба с историей приводит к попыткам уничтожить жизнь вообще. Воинственная, разрушительная активность является, за редкими исключениями, общим свойством всех глуповских градоначальников. Такими же стабильными качествами на всем протяжении глуповской истории оказываются обывательские терпение и смирение. «– Мы люди привышные! – говорили одни. – Мы претерпеть могим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить – мы и тогда противного слова не молвим! – Это что говорить! – прибавляли другие. – Нам терпеть можно! потому что мы знаем, что у нас есть начальники!» («Голодный город»). Бунт и протест глуповцев заключается то в подаче бумаг‑челобитных («Теперь наше дело верное! тепереча мы, братец мой, бумагу подали!»), то в сбрасывании с колокольни и утоплении в реке своих же Прошек да Ивашек. Пострадавший за общество правдолюбец Евсеич получает лишь словесное утешение: «Небось, Евсеич, небось! – раздавалось кругом, – с правдой тебе везде будет жить хорошо!» Возмущения глуповцев чаще всего оказываются той же самой градоначальнической акцией, спланированной провокацией. «– Много у нас всякого шуму было! – рассказывали старожилы, – и через солдат секли, и запросто секли… Многие даже в Сибирь через это самое дело ушли! – Стало быть, были бунты? – спрашивал Бородавкин. – Мало ли было бунтов! У нас, сударь, насчет этого такая примета: коли секут – так уж и знаешь, что бунт!» («Войны за просвещение»). «Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия, – комментирует издатель бурную деятельность Бородавкина. – Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что‑то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве» (очередной выход из глуповской истории в российскую). Критическое отношение к исторической российской государственности было привычно для самых разных, современных Щедрину течений общественной мысли – от радикалов‑демократов до славянофилов. Но взгляд на страдающий глуповский «народец» удивлял, шокировал, вызывал резкое противодействие. Автор «Исторической сатиры» находил у писателя прямое «глумление над народом». Действительно, может спросить и читатель сегодняшний, если Глупов – общая модель российской истории, то где у г‑на Щедрина самоотверженные усилия по созданию огромной империи, военные подвиги, бытовая смекалка, многолетние крестьянские войны, задушевная сторона народной жизни, результатом которой стал замечательный фольклор? Где все это? Это, мог бы ответить Щедрин, надо искать у Пушкина (в «Дубровском» и «Капитанской дочке»), у Толстого (в «Войне и мире» и замысле романа о русском народе как «силе завладевающей»), у Тургенева (в «Записках охотника»), у Лескова (в «Запечатленном ангеле» и «Очарованном страннике»). Замысел Щедрина был иным. Он гротескно преувеличивал, обострял трагическую сторону русской истории, ее бег по кругу, объясняющийся как раз избытком давления «сверху» и недостатком сознания, самоуправления «снизу».
«В России две напасти: Внизу – власть тьмы, А наверху – тьма власти», –
удачно сострил журналист В. Гиляровский вскоре после появления драмы Л. Толстого. Щедрин мучительно размышляет над этим трагическим противоречием русской истории. «При таких условиях невозможно ожидать, чтобы обыватели оказали какие‑нибудь подвиги по части благоустройства и благочиния или особенно успели по части наук и искусств. Для них подобные исторические эпохи суть годы учения, в течение которых они испытывают себя в одном: в какой мере они могут претерпеть. Такими именно и представляет нам летописец своих сограждан. Из рассказа его видно, что глуповцы беспрекословно подчиняются капризам истории и не представляют никаких данных, по которым можно было бы судить о степени их зрелости в смысле самоуправления; что, напротив того, они мечутся из стороны в сторону без всякого плана, как бы гонимые безотчетным страхом. Никто не станет отрицать, что это картина не лестная, но иною она и быть не может, потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления» («Поклонение мамоне и покаяние»). В этой же главе издатель предсказывает упреки в «преднамеренном глумлении», но говорит, что иной, кроме изложенного, взгляд на глуповские обычаи был бы «несогласным с истиною». Когда же такие упреки все‑таки последовали, Салтыков объяснился в письме в редакцию «Вестника Европы» уже от своего лица, открытым текстом: «Вообще, недоразумение относительно глумления над народом, как кажется, происходит оттого, что рецензент мой не отличает народа исторического, то есть действующего на поприще истории, от народа как воплотителя идеи демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих. Если он производит Бородавкиных и Угрюм‑Бурчеевых, то о сочувствии не может быть речи; если он выказывает стремление выйти из состояния бессознательности, такое сочувствие к нему является вполне законным, но мера этого сочувствия все‑таки обуславливается мерою усилий, делаемых народом на пути к сознательности. Что же касается до „народа“ в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по одному тому, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности. О каком же „народе“ идет речь в „Истории одного города“?» Ответ на этот риторический вопрос очевиден. Глуповцы были для Щедрина образом народа исторического, не выходящего из состояния бессознательности. «Боже, как грустна наша Россия!» – сказал, по свидетельству Гоголя, Пушкин, послушав первые главы «Мертвых душ». «Боже, как она смешна и страшна…» – можно добавить после чтения «Истории одного города». Не забудем, что книгу сочинил бывший вице‑губернатор, тоже в некотором роде градоначальник. Он знал, что говорил.
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 435; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.129.71.14 (0.01 с.) |