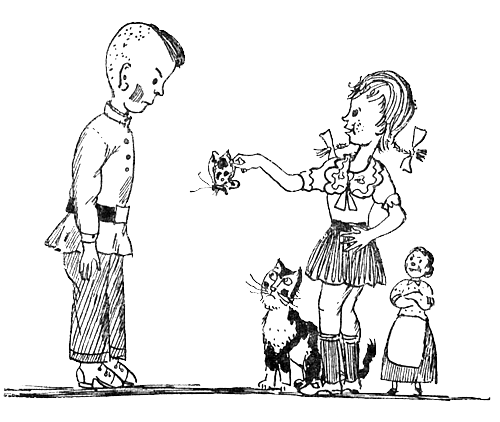Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Из правдивых воспоминаний бывшего ребенкаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
В этой истории я хочу вспомнить, как болел в детстве мой друг врач Виль Булочников, известный в дворовых кругах под именем Булочной, как болела скарлатиной Софья Белоногова, в прошлом Белоножка, и как мы – Толик Январев, Костя Субботин и я – переживали за них.
«Давайте поговорим о микробах и бациллах. Перестаньте бояться их. В этом все дело. Да, это основное; если вы раз и навсегда усвоите это, больше вам не о чем тревожиться. Увидев бациллу, подойдите к ней и посмотрите ей в глаза. Если она влетит к вам в комнату, бейте ее шляпой или полотенцем. Ударьте ее как следует в солнечное сплетение. Ей быстро надоест все это». (Одна очень интересная книга.)
Светило солнышко. Пели птички. Голубое небо начиналось у самой травы. Как белый снег в холод, на траву опускались бабочки. Тихо текла река. Из ее глубины выскакивали подышать свежим воздухом маленькие, блестевшие на солнце рыбы. Слышался всплеск весла, скрипело немазаное колесо, стучало копыто о подвернувшийся камень. Пахло деревьями. С каким удовольствием начинаю я новый рассказ с этого спокойного и доисторического пейзажа. Так было всегда. И в тот знаменательный период, когда сотворился мир, тоже светило солнышко, пели птички – совсем‑совсем новенькие, – тихо текла река, и из нее выбрасывались только что сделанные серебряные рыбы. Потом было: история древнего мира, пунические войны, восстание рабов, афинская демократия, выколотая на руке буква «С» (начальная буква существительного Соня), флора, фауна. Флора начиналась сразу за чугунными воротами Юсуповского сада, делала небольшой круг по берегу пруда и возвращалась к воротам. При малейшем ветерке флора шумела и роняла листья для гербария. Пустыни Средней Азии были представлены здесь голым песочным местом, накалявшимся жарким летом, американские прерии и пампасы Рио‑Колорадо были представлены ковылем и пыреем. Фауна, запряженная в телегу с бочками пива, понуро проходила по набережной в направлении вывески «Воды и соки». За ней, по горячим следам, скакали пернатые с голосами охрипших милицейских свистков. Вместо леса с голубикой, вместо речки с песком, вместо утренней росы и ключевой воды в нашей жизни был старый доктор Марк Соломонович, являвшийся с чемоданчиком на телефонный звонок.
Диагноз? – Каменный двор, сквозняки в переулке, вонючая Фонтанка, и никаким рыбьим жиром вы это не исправите, – ворчал Марк Соломонович, выписывая по осени рецепт. Я говорил где‑то, что Белоножка готова была поехать в Сибирь за Булочной. Судьбе было угодно, чтобы она отправилась за ним в детскую больницу, расположенную, как это может случиться лишь в Ленинграде, на самом Пулковском меридиане. В очередной раз – это происходило дважды в неделю – наша компашка (Январь, Суббота и я) появилась перед окнами «Первой инфекции». Булочная показал в окно свою записку, в которой было несколько просьб насчет книг и цветных карандашей и между прочим сообщалось: «В Африке скарлатиной не болеют». То, что в Африке лучше, чем где бы то ни было, нам было известно с пяти лет. Январь весело переписал эту новость и показал Белоножке, торчавшей в другом окне. «Нам доктор сказал, что скарлатина почти не встречается на Аляске и в Гренландии», – написала в ответ Соня Белоногова. Я сидел на скамейке, одна ножка которой стояла на Пулковском меридиане, смотрел, прищурясь, на солнце и думал о том, что Белоножка все‑таки любит Булочную. Мне почти нечего добавить к тому, что уже написано о первой любви. Роясь в своих книгах, я недавно нашел одно очень правдивое описание первого чувства и не могу не привести его здесь полностью.[2] «Я терпеть не могу математику, – рассказывает автор, – тем более удивительно, что моей первой любовью оказалась дочь учителя математики. Мне было тогда двенадцать лет, а ей десять, и она училась в третьем классе начальной школы. Как‑то во время игры в прятки мы вместе залезли в пустую бочку, в которой моя мать квасила капусту на зиму. Здесь я признался ей в любви. До сих пор, проходя мимо пустых бочек, я вспоминаю этот случай и испытываю неизъяснимое волнение. Однажды мы встретились после уроков и вместе пошли домой. Я дал ей крендель, который покупал каждую пятницу на деньги, выигранные в четверг в „орлянку“, и серьезно спросил: – Как ты думаешь, отдаст тебя отец за меня замуж, если я посватаюсь? Она покраснела, опустила глаза и от волнения разломала крендель на три части». – Не думаю, – ответила она вполголоса.
– А почему? – спросил я, и от огорчения у меня на глаза навернулись слезы. – Потому что ты плохой ученик. Тогда я поклялся ей, что день и ночь буду зубрить таблицу умножения, только бы исправить отметку. И я учил. Учил так, как только может учить таблицу умножения влюбленный, и, разумеется, ничего не выучил. Двойка у меня стояла и раньше, и теперь, после усиленной зубрежки, я получил единицу. В следующий четверг я ничего не выиграл в «орлянку», но зато в пятницу утром забрался в платяной шкаф и срезал с отцовской одежды двадцать пуговиц, продал их и купил крендель, а в полдень уже ждал у школы, когда она выйдет. Я признался, что дела обстоят еще хуже, так как по арифметике я получил единицу. С болью в голосе она ответила: – Значит, я никогда не буду твоей! – Ты должна быть моей если не на этом, так на том свете. – Что же нам делать? – спросила она с любопытством. – Давай, если хочешь, отравимся. – Как же мы отравимся? – Выпьем яд! – предложил я решительно. – Ладно, я согласна, а когда? – Завтра после полудня! – Э, нет, завтра после полудня у нас уроки, – сказала она. – Да, – вспомнил и я. – Я тоже не могу завтра, потому что мне запишут прогул, а у меня их и так двадцать четыре. Давай лучше в четверг после полудня, когда нет уроков. Она согласилась. В следующий четверг после полудня я утащил из дома коробку спичек и пошел на свидание, чтобы вместе с ней отправиться на тот свет. Мы сели у них в саду на траву, и я вытащил спичечный коробок. – Что мы будем делать? – спрашивает она. – Будем есть спички! – Как – есть спички! – Да вот так, – сказал я, отломал головку, бросил ее на землю и принялся жевать палочку. – А зачем ты бросил это? – Да это противно. Она решилась, и мы стали есть палочки. Съев три штуки, она заплакала. – Я больше не могу, я никогда в жизни не ела спичек, больше не могу. – Ты, наверное, уже отравилась. – Может быть, – ответила она. А я съел еще девять палочек и потерял аппетит. – Что же теперь будем делать? – спросила она. – Теперь разойдемся по домам и умрем. Сама понимаешь, стыдно, если мы умрем в саду. Ведь мы из хороших семей, и нам нельзя умирать, как каким‑то бродягам. – Да! – согласилась она. И мы разошлись. Если вычесть из этой взаимной любви пустую бочку для капусты, пуговицы, двадцать четыре прогула и коробку спичек, останется то, что я испытывал к Белоножке, никогда не сказав ей об этом ни слова. Я жил на втором этаже, она – на шестом. Но я пробовал сократить разделявшую нас дистанцию, развивая бешеную скорость на самокате. Она возвращалась из школы, помахивала кожаным портфелем с двумя замками и не замечала меня. В то время мы еще ходили во второй класс. Я старался привлечь ее внимание, околачиваясь возле парадного, где она играла с подружками в «классики», стоял у своего окна, ожидая, когда появится знакомый портфель с голубым бантиком. У меня не было необходимой храбрости, чтобы заговорить с ней. Ведь она к тому же была девочкой, о которой в доме рассказывали легенды. Спустя два года нас познакомил Булочная. Он привел меня к ним домой, показал на большой письменный стол и с гордостью сказал: – Вот тут мы делаем с Белоножкой наши уроки. Потом в моей жизни появились Суббота и Январь. Я увидел, что она совершенно не отличает меня от Января, а нас с Январем от Субботы. Но судьбе было угодно, чтобы именно Булочная, а не я, разделил с Белоножкой скарлатину.
«Что ж, – думал я в припадке великодушия, – если она его любит, пусть болеют вместе». Ни один из взрослых, по‑моему, не обратил внимания на географическое положение детской больницы. С возрастом и мне стало безразлично, на какой широте валяться в гриппе. Бывают дни, когда собственное сердце – с кулак – заслоняет всю физическую географию. А тогда, в те солнечные дни, мы жили на свете, словно внутри нас ничего нет. Так оно, вероятно, и было, ибо мы не слышали свои печенки и селезенки. Мы, конечно, сразу смекнули, где находится детская больница. Булочную потом спрашивали, где он лечился от скарлатины. «На Пулковском меридиане», – отвечал он с достоинством человека, вокруг которого Земля делает полный оборот. Приятно было ходить на Пулковский меридиан, сидеть на нем, развалясь и вытянув ноги, вытаптывать снег на меридиане. И это не очень‑то далеко от нашего дома. В букете больничных запахов, где валерьянка со спиртом особенно пахнут днем, а камфара – ночью, я раньше других отличаю камфару. Камфара напоминает мне растерянный взгляд Белоножки, остриженной «под нулек» и стоящей в окне больничной палаты за двумя стеклами. На Булочной не осталось живого места. Его первый этаж при помощи шприца превратили в мелкое сито, сквозь которое то уходило, то снова возвращалось мужество. Массивный подбородок Булочной, изредка заменявший нам грушу для отработки точности удара, осунулся, похудел. Из‑под завернувшейся штанины выглядывала тощая, какая‑то серая нога. Суетливые руки показывали нам крестики и нолики, пальцы Булочникова крутились у виска, рот открывался и закрывался, а мы пожимали плечами: двойное стекло мешало нам. Зайдя в «Справочную» погреться, мы тихонько вскрывали чужие письма, сложенные треугольниками, и читали их из чистого любопытства. «Папа, принеси мне конфеты пососать. Писать больше нечего…» «Мама, мне очень хочется домой. Мама, мне тут скучно». «Бабушка, когда меня будут резать, постойте под окном операционной комнаты». Переписка с «Первой инфекцией» не разрешалась. Болели без права переписки. Письма принимали только туда, а оттуда – листок, прижатый лбом к стеклу. Без Булочной было тоскливо, недоставало нам и осуждающих взглядов высокомерной Белоножки. А время шло, на больничном дворе появлялись родители с узлами одежды, увозили домой своих детей. На исходе месяца Белоножка написала нам, что ее не отпускают, может быть, пройдет еще долгая неделя в больнице.
«А Булочная выписывается», – с грустью добавляла она. «Ребята, меня хотят выбросить отсюда через два дня, – читали мы в записке, которую Булочная приклеил слюнями к стеклу. – Мне здесь здорово понравилось, и я хочу здесь полежать еще недельку. Сходите ко мне домой, скажите бате, что ищете в моих тетрадках контрольные задачки, а сами найдите в батиных книгах в шкафу симптомы какой‑нибудь новой болезни и срочно принесите мне в больницу. Век вам этого не забуду». – Вот еще дело, – буркнул Суббота. (Мы шли к выходу из больницы.) – Понравилось! Знаем! – Ты тоже вообще… – сказал я Субботе. – И вообще тоже, – ответил он. Январь хранил молчание, обдумывая наши дальнейшие действия. Не так‑то это просто – проникнуть в чужой дом под лживым предлогом и копаться в чужом шкафу. Ясно, что причина, предложенная Булочной, никуда не годилась. – Андраша, ты мог бы сделать в классе доклад про скарлатину? – спросил Январь, когда мы поднялись на шестой этаж и остановились перед дверями квартиры Булочниковых. Я немного подумал. – Для Петра. Ефимовича? Январь кивнул. – Запросто сделаю, – подмигнул я. Отец Булочной встретил нас, не скрывая своей радости: – Булочная послезавтра будет дома, поехали, ребята, за ним на машине! Мы сказали, что не может быть разговоров, конечно, мы поедем, если Булочную там не задержат. – Петр Ефимович, – обратился я. – Вы не дадите мне какую‑нибудь книгу про скарлатину и другие болезни? Мне нужно в классе доклад сделать. – А тема? – Ну, как уберечь себя от инфекционных заболеваний. – Доклад на тему «Ну, как уберечь себя от инфекционных заболеваний»? – повторил Петр Ефимович. – Ага. – Миша… – сказал Петр Ефимович и сделал паузу. – Миша, я всегда высоко ценил твои способности, я не знаю в нашем доме никого, кроме тебя, Субботы и Января, кто был бы более сообразительным человеком. Мой Булочная уступает тебе по многим своим качествам. Я всегда восхищаюсь мастерством, с которым сделана табуретка, которую ты подарил Булочной на день рождения. Такую табуретку надо было сообразить. Я знаю, что ты не отличник, но твои четверки – это отметки человека, который знает, чего он хочет от жизни, не так ли, Миша? – Да, – сказал я. – Что говорить! У меня нет и сомнений, что ты великолепно делаешь доклады в своем классе. – У‑у‑у! – поддержал Суббота это убеждение Петра Ефимовича. – Я уверен, что доклады твои проходят на «ура». Мне вовсе не становилось стыдно за вранье. – Но, дорогой коллега, я несколько удивлен, почему такую тему поручили тебе? Согласись, что еще остались в науке некоторые вещи, до конца не познанные тобой? «Ну, как уберечь себя от инфекционных заболеваний…» Гм‑гм‑м… Разберешься ли ты? – Он разборчивый, – махнул рукой Суббота. – Доклад надо делать – вот беда. Для Субботы бедой были доклады, выступления на собраниях, заметки в стенгазету и домашние сочинения. – Нет, Суббота, я не вижу в этом беды, – сказал Петр Ефимович, снимая очки, – это даже хорошо, что тебе, Миша, поручили доклад. Любой доклад развивает воображение, приучает говорить, мыслить логическими категориями. Может быть, мне сделать доклад в вашем классе? Я немного учился на врача… У меня высшее медицинское образование.
– А вас не будут слушать, – резко сказал Суббота. – Правда, Петр Ефимович, правда, у нас такие змеи в классе. Отец Булочной открыл книжный шкаф. Вручая мне огромный том «Курса острых инфекционных болезней» Г. А. Ивашенцова, он сказал: – Миша, я с удовольствием даю тебе книгу, но с одним легким для тебя условием: если ты встретишь затруднение, знаешь, тут много латинских слов, если ты почему‑либо не поймешь латынь или медицинский термин, ты подымешься ко мне, чтобы спросить. Хорошо? – Он все поймет! – вскричали мои друзья, выхватив у меня книгу. Впервые Петр Ефимович пожал мне руку. Ну действительно, что могло быть непонятного в книге, которую мы не собирались читать?.. Тиф начинался сильным ознобом, головной болью, рвотой, болями в боку. Малярия начиналась тоже с озноба. Корь высыпала пятнами на лице. Сибирская язва Булочной не подходила, потому что ею болеет в основном крупный рогатый скот. Мы уступили настояниям Января и выбрали вполне детскую болезнь. Вот что мы советовали: «Булочная, набей высокую температуру на градуснике. Все время жалуйся на голову, у тебя болит живот и горло. Тебе должно быть трудно глотать. Запомни: у тебя начинается дифтерия». Дифтерия ему понравилась, он показал большой палец, присыпал его сверху солью. Мы распрощались, и Булочная захромал от окна в глубь коридора. В тот день, которым закончится это повествование о скарлатине и других детских болезнях, над Пулковским меридианом небо было голубым и чистым. Я сбежал с двух уроков ради прогулки на седьмое небо. Ради этой прогулки я не задумываясь пожертвовал шипящими гласными и континентальным климатом казахских степей. На Пулковском слышно было, как хлопают где‑то двери приемного покоя и скрипит под ногами родителей снежный покров земли. Беспощадное солнце, ударившись о снег, застревало осколками в моих глазах, и я, прищурясь, смотрел в сторону, откуда должны были появиться родители Белоножки с узлом в руках. Накануне я узнал в Справочной, что врачи все же решили отпустить Белоногову Соню. Я сидел на цоколе здания, положив под себя портфель замком вниз, и ждал. Булочную к окну не подзывали, большеротый стриженый мальчик объяснил мне знаками, что Булочная лежит. Так вот я сидел и ждал. Около двенадцати во дворе послышалось знакомое тарахтение мотора ДКВ, и в подтверждение моей догадки, что это машина марки ДКВ, из‑за сугроба выскочило такси и затихло возле дверей «Первой инфекции». Из ДКВ вылезла высокая красивая женщина в каракулевой шубе, скользнула по мне безразличным взглядом и наклонилась к шоферу: – Я забираю из больницы девочку. Это продлится не очень долго. Вам нужно оставить залог? Таксист усмехнулся, оглядел дорогую шубу и отказался от залога. – Но вы все же не уезжайте, – настаивала женщина. – Куда я денусь? Белоножкина мать не узнала меня. Я не собирался узнавать ее. Когда Анна Федоровна вытащила из машины узлы с одеждой и пошла к дверям, я не пошевелился, чтобы открыть ей дверь. Я обошел машину кругом, постучал портфелем по кузову. – Ты мне машину разобьешь, – погрозил незлобно шофер. Мне нравились эти юркие, напоминавшие черных жуков автомобили, сконструированные немцами, видимо, к концу войны и, видимо, на голодный желудок. Тонкая жесть и два громких цилиндра говорили о бензиновой нужде, о супе из куриных перьев и близком крахе. ДКВ достались нам в уплату за руины Невского и за трупы на льду Фонтанки в блокадную зиму. Они прибывали из Германии вместе с комбинированными полуботинками, клетчатыми пиджаками и фетровыми шляпами. Война была вчера, со стен еще не стерлись надписи: «Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле». Появившаяся в дверях Белоножка сразу заметила меня. – Мама, Андраша здесь! – Приветик, Белоножка! – сказал я, а матери почтительно: – Здравствуйте, Анна Федоровна. – Очень мило, Миша, – сказала мать, узнав меня. – Как поживаешь? – Хорошо, – ответил я, потому что день был солнечный, небо высокое, а кое‑кого выписали из больницы. – А как ты приехал? – спросила Белоножка. Я хлопнул портфелем по своим ногам: – На одиннадцатом номере. – Знаешь, знаешь, так жалко Булочную!.. – сказала Белоножка трагическим голосом, сдвинув брови. – Его хотели выписать, и вдруг поднялась температура… – Интересно, сколько? – Сорок у Булочной. Его держат в кровати, врачи не знают, что у него. Так его жалко! – У Булочной дифтерит, – сказал я. – Да? Откуда ты знаешь? – прищурила она свои глаза, став прежней надменной Белоножкой. – Я все знаю. – Все‑все? – иронически спросила она. – Все и даже чуточку больше, – ответил я. Я смотрел на кончик ее порозовевшего носа и думал о том, что он наверняка касался носа Булочной. – Соня, тебе нельзя долго быть на свежем воздухе, – сказала мать, уже сидевшая в такси. – Садись, а то опять заболеешь, – сказал я, подтолкнув ее к такси. – Соня! – строго произнесла Анна Федоровна. Белоножка устроилась на переднем сиденье, подобрав полы ярко‑красного пальто с серым каракулевым воротником. Я покрепче захлопнул широкую единственную дверцу ДКВ. ДКВ завелся, прочистил хлопками трубу и, пуская дым, скрылся за сугробом. Где‑то возле ворот еще пошумел, потом все стихло на больничном дворе. Прошло много лет, прежде чем я заметил, что меня не пригласили сесть в машину. Я подумал об этом сейчас, припоминая заснеженный, скрипевший под нашими ногами Пулковский меридиан и пронзительно чистое небо над ним. Над моей головой.
– Отметь здесь же где‑нибудь, что я через три дня выписался из больницы, – просит взрослый Булочников, читая написанное через мое плечо. – И вообще я выгляжу на страницах твоих мемуаров самым настоящим ловеласом, – добавляет он недовольно. – Таким я вижу тебя в том прошедшем времени. – Ради истины ты мог бы опустить кое‑какие детали. Неужели Белоножка похожа на женщину, которая может позволить дотронуться до ее лица кончиком носа? Этого никогда не было. Спроси у Соньки… – Хорошо, Булочная. Я тебе верю. Поэтому я здесь же напишу: «Белоножка была не только надменной, язвительной девчонкой, но, как теперь выяснилось, она была еще и недотрогой».
1968
Леонид Ленч Как я был учителем
I
Я был учителем пятьдесят лет тому назад. Мне шел тогда пятнадцатый год, и я сам учился в гимназии, по тем не менее я настаиваю на слове «учитель». Репетитором меня нельзя было считать. Репетиторством занимались гимназисты‑старшеклассники, они имели дело с уже готовым материалом – с отстающими оболтусами из младших классов, которых они за умеренное вознаграждение вытаскивали за уши из двоечной трясины. Мне же пришлось подготавливать к поступлению в женскую гимназию некое первозданно‑очаровательное существо: два огромных белых банта в тощих каштановых косичках, внимательные, загадочные, как у маленького Будды, черные глаза с мерцающими в них искорками многих тысяч «почему» и капризный алый ротик закормленного, избалованного и заласканного единственного ребенка. Звали это существо Люсей. Учителем я стал не по призванию, а по нужде. Мы с матерью жили тогда в маленьком кубанском городке, где застряли потому, что из‑за гражданской войны на юге России не могли вернуться в родной Петроград. В тот год умер мой отец – военный врач, мы стали испытывать материальные лишения, и тогда кто‑то из гимназических учителей, желая помочь нам, нашел для меня урок – вот эту самую первозданную Люсю. …Я храбро постучал в дверь провинциально‑уютного одноэтажного кирпичного домика со ставнями, которые закрываются не изнутри, а снаружи. Дверь мне открыл Люсин папа – агент страхового общества «Россия», – немолодой, пузатый, щекастый господин. Он был похож на важного чердачного кота при хорошем мышином деле. – Что скажете, молодой человек? – спросил он, глядя на меня сверху вниз. Краснея, я объяснил ему, кто я и зачем пришел. Он усмехнулся в рыжеватые усы и сказал, пожав плечами: – Ну, тогда пожалуйте в зало! Боже мой, сколько оскорбительного скептицизма, даже презрения к моей персоне было в этом пожатии плечами, в этих чуть шевельнувшихся от усмешки котовых его усах! Каким‑то внутренним зрением я вдруг увидел себя со стороны и все свои многочисленные изъяны: свою мальчишескую худобу, штопку на заду черных гимназических брюк, стоптанные башмаки, застиранную короткую белую блузу, перетянутую лаковым с трещинами поясом, на медной пряжке которого еще сохранилась цифра «3» и буквы «П» и «Г» – Третья петроградская гимназия. Мы вошли в небольшую комнату с классически мещанским убранством: коврики, салфеточки, полочки с фарфоровыми слониками, фикусы в кадках, семейные фотографии каких‑то на диво откормленных попов в богатых рясах и венские стулья по стенам. Мы сели. – Мать! – позвал Люсин папа. В комнату вплыла низенькая, полная, румяная женщина с легкой сединой в пышной прическе. Рукава ее затрапезного платья были высоко засучены. Вместе с ней в комнату вплыл вкусный запах вишневого варенья. – Мать, это новый Люсин учитель! – сказал Люсин папа, кивнув в мою сторону с той же едва уловимой усмешкой. Я встал и, шаркнув ногой, поклонился «Пульхерии Ивановне», как мысленно я окрестил Люсину маму. – Худенький какой! – сказала Люсина мама, обращаясь не ко мне, а к мужу. – Ты уж, отец, сам обо всем договаривайся с ними, у меня варенье варится. Она удалилась. Люсин папа сказал: – Как вас зовут, молодой человек? – Леонид. – А по батюшке? – Сергеевич! – Так вот‑с, Лёня, – сказал Люсин папа, играя золотой цепочкой своих жилетных часов, – готовить Люсеньку вы будете по всем предметам, то есть русский, арифметика и закон божий. – И закон божий?! – вырвалось у меня. – А почему, Леня, вас так пугает закон божий? – подозрительно прищурился Люсин папа. – Не пугает, но она же у вас, наверное, знает основные молитвы? – Нетвердо. Хотелось бы, чтобы и Ветхий завет… в общих чертах. Таинства непорочного зачатия можете не касаться… в подробностях. О материальной стороне мы договорились быстро, потому что Люсин папа просто продиктовал мне свои условия: заниматься ежедневно, кроме воскресенья, получать я буду столько‑то в месяц. Сумму Люсин папа назвал вполне приличную, и я подумал, что быть учителем очень выгодно. Вдруг в комнату впорхнула черноглазая девчушка в коротком платьице, с загорелыми крепкими ножками в ссадинах и царапинах, с белыми бантами в косичках. Двумя пальчиками она держала в вытянутой руке черно‑желтую (как георгиевская орденская лента), свежепойманную бабочку. – Познакомься, Люсенька, это твой учитель! – сказал Люсин папа, – его зовут Лё… (тут он запнулся) Леонид Сергеевич. Подойди, деточка, к ним, поприветствуй! Люся приблизилась ко мне, и, не выпуская из пальцев орденоносную бабочку, сделала мне книксен. – Леонид Сергеевич, скажите пожалуйста, – сказала она, изучающе глядя на меня в упор, – почему у бабочков нет детей? Я ответил, надо признаться, не очень изобретательно: – Потому что им некогда с ними возиться! – А почему им некогда возиться? – Потому что надо летать, добывать себе пищу. – А зачем им пища? У них же зубков нету! – Они питаются особой пищей. – Какой? А какой пищей, в самом деле, питаются бабочки? Я чуть покраснел, и Люся это заметила. В глубине ее черных глаз зажегся огонек, как мне показалось, такой же, как у ее папы, скептической усмешки. Но тут в наш разговор с Люсей, на мое счастье, вмешался именно он, Люсин папа. – Потом, доченька, все узнаешь у своего учителя. Отпусти насекомое и ступай пока играться!.. Послушная Люся выпустила бабочку. Бабочка подлетела к окну и, треща крылышками, забилась о стекло. Я поднялся и стал прощаться.
II
На следующий день в точно назначенный час мы уединились с Люсей в ее комнате. Она уселась за низкий столик, я устроился в мягком кресле напротив. Начать я решил с русского языка. – Какие стихи ты знаешь? – «Птичку божию». – Ну‑ка, прочти! Люся, глядя на потолок, стала проникновенно декламировать:
Птичка божия не знает Ни заботы, ни труда, Хлопотливо не свивает Долгосвечного гнезда…
– Нужно говорить «долговечного», Люся, а не «долгосвечного». – Почему долговечного? – Потому что так Пушкин написал! – А мне больше нравится, когда долгосвечное гнездо! – Мало ли что тебе нравится! Надо учить стихи так, как они написаны. Прочти еще раз. Люся вперила свой взор в потолок и с той же проникновенностью продекламировала:
Птичка божия не знает Ни заботы, ни труда, Хлопотливо не свивает Долго… свечного гнезда!
Я остановил чтицу и сказал строго: – К завтрашнему дню ты выучишь «Птичку» заново и будешь говорить «долговечного», а не «долгосвечного». (Тут черные загадочные Люсины глаза сердито сверкнули.) А сейчас займемся арифметикой. Сколько будет два и два? – Четыре. – А два и три? – Пять. – А пять и два? – Семь. – Молодец! Пять и три? Люся вдруг задумалась. Потом сказала шепотом: – Пять и три не складывается! – Как это – не складывается? Ну‑ка, подумай еще! Она подумала и, покачав своими бантами, повторила упрямо! – Не складывается. – У тебя есть кубики? – Есть. – Давай их сюда. Она взяла коробку с кубиками и выложила их на стол. – Отсчитай три кубика и отложи их в сторону. Она отсчитала и отложила в сторону три кубика. – Теперь отсчитай и отложи в другую сторону пять кубиков. Она отсчитала и отложила пять кубиков. – Теперь смешай обе кучки. Она смешала. – Сосчитай, сколько получится. Она сосчитала и сказала: – Восемь кубиков. – Ну сколько же будет пять и три? Белые банты снова замотались у меня перед глазами. – Не складывается! – Ты же только что сложила кубики! – Кубики складываются, а цифры не складываются! Нарочно она, что ли? Я вынул из кармана носовой платок и вытер пот, выступивший на лбу. Люся взглянула на меня искоса и аппетитно зевнула. – Ты устала? Она кивнула головой. – Тогда на сегодня хватит!
III
Так начались мои двухмесячные муки. Нет, она не была тупым, дефективным ребенком, она капризная, своенравная девочка. Наверное, опытный, умный педагог сумел бы подобрать ключик послушания к ее вздорной натуре, но я… эта маленькая садистка играла со мной, как кошка с мышонком! Сегодня прочтет «Птичку» правильно, назовет гнездо «долговечным» – я в душе торжествую победу. Но завтра гнездо снова становится «долгосвечным». Вдруг пять и три у нее «сложилось». Мы вдвоем бурно радуемся этому арифметическому чуду. Завтра пять и три снова «не складываются». С законом божьим дело тоже у нас не ладилось. – Люся, расскажи, как бог сотворил мир. – Плюнул, дунул, сотворил! – Отвечай так, как написано в учебнике. Мы же читали с тобой. Она смотрит на меня в упор, потом переводит глаза на потолок. – Леонид Сергеевич, скажите, пожалуйста, почему мухи ползают по потолку кверху животиками и не падают? – Отвечай, что я тебя спрашиваю! Она хлопает в ладоши и радостно визжит: – Не знаете! Не знаете! Как мне хотелось в такую минуту снять с себя видавший виды гимназический ремень и отодрать мою мучительницу как сидорову козу! Говорить с Люсиными родителями о своих муках мне не хотелось. Во‑первых, мне казалось, что это будет похоже на фискальство. А во‑вторых, я боялся, что Люсин папа мне тогда откажет в уроке. Денег за первый месяц занятий он мне не заплатил. То их у него не было и он просил меня «немного обождать», то он никак не мог найти куда‑то запропастившийся ключ от шкатулки с деньгами. Однажды, когда я попросил денег настойчиво, он, поморщившись, пошел к себе и вынес «катеньку» – николаевскую сторублевку. – Сдачи найдется, Леня? – спросил он, улыбаясь, с нескрываемым ехидством. Сдачи? У меня на стакан семечек не было в кармане. – Тогда… в следующий раз! – сказал агент страхового общества «Россия» и ушел прятать «катеньку» в свои закрома. Я стал плохо спать, похудел еще больше. Но из самолюбия маме ни в чем не признавался и советов у нее не просил. День экзаменов в женскую гимназию приближался с неумолимой неотвратимостью, и я понимал, что это будет день моей казни. Так и случилось. Люся провалилась по всем предметам. С тяжелым сердцем я постучал в дверь знакомого одноэтажного домика. И на этот раз дверь открыл Люсин папа. Он окинул меня уничтожающим взглядом: – Пройдемте в зало! Когда мы сели, он сказал: – Даже по закону божьему и то… фиаско! Отец протоиерей… партнер по преферансу… сказал мне: «При всем желании ничего не мог сделать для вас. Что вы за учителя для нее нашли! Гнать надо в шею таких учителей!» Я молчал. – Будущей осенью открывается приготовительный класс, а сейчас… все псу под хвост, извините за грубое выражение! Я поднялся и, заикаясь, пролепетал, что хотел бы получить свои заработанные деньги. Он стал малиновым и тоже поднялся – грозный, пузатый, непреклонный. – Ну, знаете ли, Леонид Сергеевич… Как это у вас хватает нахальства! Допустим, я заказываю бочку бондарю для дождевой воды, а он, подлец, делает… Я не стал слушать, что делает подлец бондарь, повернулся и ушел. По переулку навстречу мне вприпрыжку бежала Люся. Белые банты в ее косичках плясали какой‑то веселый танчик. Она пела на собственный мотив:
Птичка божия не знает Ни заботы, ни труда, Хлопотливо не свивает…
Увидела меня и, показав мне язык, торжествующе проскандировала:
Долгосвечного гнезда!..
Больше я никогда в жизни не занимался педагогической деятельностью, но с тех пор стал глубоко уважать учительский труд как очень тяжелый и лично для меня – непосильный.
1969
Виктор Голявкин
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.186.185 (0.024 с.) |