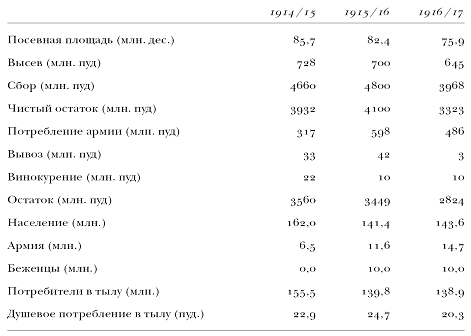Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Механизм брейкдауна в условиях войны
«Среди историков существует мнение, – отмечает Э. Хобсбаум, – о том, что Россия… могла бы продолжать поступательное и эволюционное движение в сторону процветающего либерального общества, если бы это движение не было прервано революцией, которой, в свою очередь, можно было бы избежать, если бы не Первая мировая война. Ни одна из возможных перспектив развития не удивила бы современников больше, чем эта. Если и существовало государство, в котором революция считалась не только желательной, но и неизбежной, так это империя царей».[2077] Однако вопрос о том, что было бы, если бы не было войны, в принципе не имеет право на постановку – и не только по той причине, что история не имеет сослагательного наклонения. До появления ядерного оружия войны между великими державами были неотъемлемой частью исторического процесса. А. Н. Боханов подсчитал, что в XVI веке русское государство воевало 43 года, в XVII веке – 48 лет, в XVIII веке – 56 лет, в XIX веке – 30 лет.[2078] Конечно, не все эти войны были большими войнами с «великими державами». Специфика ситуации второй половины XIX столетия заключалась в том, что большая война почему‑то запаздывала, между окончанием Крымской и началом Первой мировой войны прошло 58 лет, в то время как временные промежутки между большими войнами с участием России в XVI – первой половине XIX века в среднем составляли лишь 16 лет.[2079] Последний мирный период был очень длинным потому, что русское правительство сознавало неготовность страны и армии к большой войне и часто шло на большие дипломатические уступки, как было, например, во время боснийского кризиса 1908 года – эти уступки воспринимались тогда как публичное унижение России.[2080] Однако, как указывает Э. Хобсбаум, в 1910‑х годах неизбежность войны воспринималась уже как неоспоримый факт.[2081] «Продолжавшееся международное напряжение и напряжение от гонки вооружений – все это создавало настроение, в котором война воспринималась почти как облегчение… – отмечает Д. Джолл. – Предшествующий международный кризис, рост вооружений и флота и настроение, которое они создавали, – все это позволяло определить, что эта конкретная война не могла не разразиться в данный момент».[2082] Таким образом, война была неизбежной исторической реальностью, и нам предстоит еще раз описать и проанализировать механизм действия демографически‑структурной теории в условиях войны. Большое значение при этом имеет то обстоятельство, в какой фазе демографического цикла происходит война. Как отмечалось ранее, в соответствии с концепцией Дж. Голдстоуна война (если она не сопряжена с вторжением противника в глубь страны) не может вызвать брейкдаун в периоды низкого давления, но способствует брейкдауну в период Сжатия. В пункте 5.5, анализируя механизм кризиса в период Крымской войны, мы отмечали, что он имел три направления развития. Первая встававшая перед страной проблема заключалась в нехватке вооружений, что вело к военным поражениям и ослаблению авторитета власти. Вторая проблема заключалась в том, что в обстановке Сжатия и перманентного финансового кризиса государство могло финансировать войну лишь за счет эмиссии бумажных денег, что приводило к гиперинфляции, развалу рынка и в перспективе – к нарушению снабжения городов. Третья – и главная – проблема заключалась в том, что Сжатие, крестьянское малоземелье и народная нищета, вызывали глубокий социальный раскол общества, что в условиях военных тягот было чревато восстаниями крестьян‑ополченцев и народными восстаниями в тылу.
Интересно отметить, что П. Н. Дурново в цитированной выше записке выделяет, причем во взаимосвязи, первую и третью проблему, но не говорит о второй – видимо, потому что финансовые трудности во время непродолжительной русско‑японской войны были разрешены с помощью внешних займов и не вызвали гиперинфляции. Однако необходимо напомнить, что именно финансовый кризис был одной из главных причин, заставивших Россию подписать Портсмутский мир. В отличие от предыдущих войн, в которых участвовала Россия, новая война была огромной по масштабам и намного более длительной. Масштабы войны были следствием технологических революций XIX века: железные дороги позволили мобилизовать и отправить на фронт многомиллионные армии, а фабричная промышленность позволила оснастить их оружием. Длительность войны была во многом обусловлена новым достижением военной техники, изобретением пулемета. Появление пулеметов дало решающее преимущество обороняющейся стороне и обусловило «окопный» характер долгой войны на истощение.[2083]
Необходимо подчеркнуть также, что, согласно теории, понятие Сжатия заключает в себе не только малоземелье и низкий уровень потребления, но и повышение уровня смертности – в том числе в результате войн. Таким образом, война была еще одним фактором Сжатия, намного увеличившим его интенсивность. В начале Первой мировой войны продовольственное положение было относительно благоприятным, и никто не предвидел будущих трудностей.[2084] Экспорт, прежде сводивший внутреннее потребление к полуголодному уровню, был теперь запрещен; было запрещено и винокурение, таким образом, в стране должно было оставаться количество зерна, более чем достаточное для снабжения армии и тыла. В 1914 году урожай был средний, а в 1915 году – самый высокий за последнее десятилетие. Как показывают расчеты, душевое потребление в тылу в 1914/15 – 1915/16 годах составляло 23–25 пудов – то есть было не меньше, чем потребление населения в предвоенное время (см. таблицу 8.8).
Табл. 8.8. Хлебный баланс в 1914–1917 годах (без оккупированных территорий, Закавказья и Средней Азии). [2085]
К весне 1915 года в армию было мобилизовано 6,3 млн. человек, а к весне 1917 года – 13,5 млн., что составляло 47 % трудоспособного мужского населения. Это привело к резкому изменению демографической ситуации в деревне, на смену избытку рабочей силы пришел ее недостаток. В семи губерниях Черноземья (Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Черниговской) без работников‑мужчин осталось 33 % хозяйств, во многих хозяйствах земля была засеяна лишь благодаря старой традиции общинных «помочей». Не хватало работников и в помещичьих хозяйствах. Арендная плата по семи губерниям упала с 41 % урожая в 1912–1914 годах до 17 % в 1915 году и 15 % в 1916 году; резко возросла оплата батраков (в Тамбовской губернии – на 60–70 %). На юге, в Новороссии, не получавшие прежней прибыли помещики стали сокращать запашку, в Херсонской губернии к 1916 году владельческая запашка сократилась в 2,3 раза. Однако в целом по стране, если не учитывать потерю оккупированных территорий, уменьшение посевных площадей было незначительным (в Центрально‑Черноземном районе – на 4 %).[2086] Как отмечают многие авторы, с чисто продовольственной точки зрения, положение крестьянства во время войны несколько улучшилось,[2087] но в плане уменьшения социальной напряженности это не имело существенного значения. Отношение к правительству и к войне определялось негативной инерцией предшествующего периода. «Село, и прежде антигосударственное по настроению, – отмечают В. А. Дьячков и Л. Г. Протасов, – не видело нужды в активной поддержке государственных военных усилий, ставя на первое место борьбу за землю и волю, против помещиков, хуторян… против твердых цен, проваливая продовольственную разверстку А. А. Риттиха, саботируя государственные повинности и налоги… Внутренний конфликт, ненависть к „врагу внутреннему“ были сильнее, подпитываясь негативно осмысленным опытом прошлой жизни, пережитыми обидами, хроническим социально‑культурным недопотреблением».[2088] С началом войны к накопленному за десятилетия социальному недовольству добавилась боль расставания с родными и близкими; если прежде крестьянство страдало от голода, то теперь «мужиков» посылали умирать на непонятной для них войне. Во время мобилизации «плач мужчин, женщин, детей слышался в России повсеместно».[2089]
В годы войны русская армия на 90 % состояла из крестьян.[2090] Исследователи крестьянского менталитета отмечают, что в основе отношения крестьян к войне лежало традиционное фаталистическое восприятие ее как стихийного бедствия, наподобие засухи и неурожая. Поэтому крестьяне и на этот раз в своей массе подчинились судьбе: 96 % мобилизованных явились на призывные пункты.[2091] Но на многих призывных пунктах неожиданно вспыхнули стихийные волнения, которые пришлось усмирять силой, по неполным официальным данным, при подавлении этих бунтов было убито 216 призывников. Власти пытались объяснить эти волнения несвоевременным введением «сухого закона», что не позволяло провожать призывников «по обычаю». Однако Дж. Санборн приводит примеры, когда официальное объяснение было заведомо ложным, и показывает, что в основе волнений лежало социальное недовольство. Мобилизация сопровождалась огромным потоком жалоб но то, что «богатые» уклоняются от призыва, что «за 100 рублей можно получить бронь».[2092] Генерал С. А. Добровольский, начальник мобилизационного отдела писал об обилии «всевозможных просьб… об освобождении, или, по крайней мере, об отсрочке призыва в войска. Подобные просьбы поступали не из толпы народа, а от нашего культурного общества и из среды буржуазии».[2093] Таким образом, фактор социального раскола проявился в самом начале войны; при этом раскол приобрел еще одно измерение: простонародье должно было идти на фронт умирать, в то время как элита и ее служители могли отсиживаться в тылу. Социальный раскол в значительной мере определил постепенно развивающееся противостояние фронт – тыл; он обусловил ненависть и презрение фронтовиков к «тыловым крысам», включая полицию, штабных офицеров, высшее командование и правительство. После понесенных поражений крестьянская ненависть кристаллизовалась в обвинение в предательстве, адресуемое высшим офицерам, – то есть по преимуществу дворянам‑помещикам, старым врагам крестьян. «Крестьянская психология солдата указывала ему конкретного виновника его страданий – предательство офицеров, особенно высших, и министров».[2094]
Однако конфликт фронта и тыла был более широким, чем традиционное противостояние народных низов и элиты, он втягивал в себя и средние слои, людей, которые прежде не проявляли социального недовольства, а теперь люто ненавидели тех, кто послал их умирать, а сам отсиживался в тылу. Эта ненависть проявлялась, в частности, в отказах фронтовиков (в том числе казаков и офицеров) оказывать помощь полиции в подавлении голодных бунтов (о чем пойдет речь ниже). Как отмечал А. Уайлдман, внутренняя логика армейской жизни в годы войны в большей степени вела к бунтарству, нежели любая пропаганда.[2095] Многие наблюдатели отмечали, что мобилизованные крестьяне не понимали, ради чего они должны идти на войну.[2096] «У них не было никакого представления о том, ради чего они воюют, – свидетельствует британский военный атташе А. Нокс, – не было у них и сознательного патриотизма, способного укрепить их моральный дух перед зрелищем тягчайших потерь…».[2097] «Крестьянин шел на призыв потому, что привык вообще исполнять все, что от него требует власть, – писал генерал Ю. Н. Данилов, – он терпел, но пассивно нес свой крест, пока не подошли великие испытания».[2098] Едва ли не единственной внутренней мотивацией крестьянского участия в войне – но мотивацией неофициальной, исключительно на уровне бытового сознания – были слухи о том, что после окончания войны солдаты‑победители получат землю. Эти слухи были аналогичны слухам 1812 и 1855 годов о том, что крепостные‑ополченцы получат свободу. Однако по мере затягивания войны ничем не подкреплявшиеся надежды постепенно рассеивались.[2099] Нежелание крестьян‑солдат воевать сказывалось уже в начале войны. Председатель Думы М. В. Родзянко приводил примеры, когда во время атаки с поля боя дезертировало до половины солдат, подчеркивая, что это примеры «далеко не единственные».[2100] К концу 1914 года в различных армиях было издано большое количество приказов, отмечавших отсутствие стойкости у солдат и распространившиеся сдачи в плен.[2101] Русская армия уступала противнику в артиллерии, и русские генералы старались использовать численное превосходство, безжалостно бросая своих солдат в штыковые атаки. Осенью 1914 года на Восточном фронте 3 млн. русских сражались с 1,5 млн. австрийцев и немцев, и к концу года русские потери достигли 1,4 млн. Уже в начале 1915 года закончились мобилизационные запасы снарядов и винтовок, на фронт прибывали невооруженные пополнения. Затем началось немецкое наступление. В июле 1915 года в сражении на реке Нарев тысячи солдат не имели винтовок, а для артиллерии была установлена норма в 5 выстрелов на орудие в сутки. Немецкие же орудия были обеспечены 600 – 1000 выстрелами. В день немецкого наступления артиллерийская подготовка продолжалась пять часов, и за это время обороняющиеся потеряли 30 % боевого состава.[2102] Военный министр А. А. Поливанов говорил на заседании Совета Министров 16 июля: «…Пользуясь огромным преобладанием артиллерии немцы заставляют нас отступать одним артиллерийским огнем. В то время как они стреляют из орудий чуть ли не по одиночкам, наши батареи вынуждены молчать даже во время серьезных столкновений. Благодаря этому, обладая возможностью не пускать в дело пехотные массы, неприятель почти не несет потерь, тогда как у нас люди гибнут тысячами…».[2103] Д. Ллойд‑Джордж писал: «Русские армии шли на убой под удары превосходной германской артиллерии и не были в состоянии оказать какое‑либо сопротивление».[2104] Таким образом, механизм кризиса начал действовать: недостаток вооружений привел к поражениям 1915 года и к резкому падению авторитета власти. П. Н. Дурново предсказывал, что, как и в 1905 году, поражения в войне вызовут кампанию обвинений в адрес правительства со стороны либеральной оппозиции и требования поделиться властью – и действительно, поражения 1915 года вызвали яростную антиправительственную кампанию в Думе и формирование оппозиционного «Прогрессивного блока» из прогрессистов, кадетов, октябристов и части националистов. Однако на конференции кадетов в июле П. Н. Милюков снова напомнил призывающим к революции о призраке Разина и Пугачева: «Это была бы не революция, – говорил лидер кадетов, – это был бы ужасный русский бунт, бессмысленный и беспощадный… Какова бы ни была власть – худа или хороша, но сейчас твердая власть необходима более, чем когда‑либо».[2105]
В силу этих опасений программа блока была чрезвычайно скромной, она включала амнистию политзаключенных, отмену национальных ограничений, расширение местного самоуправления и тщательно обходила главные вопросы о земле и равном избирательном праве. По существу, единственным лозунгом, объединяющим оппозицию, было создание «министерства доверия» с участием думских лидеров. Р. Пайпс отмечает, что Николая IIприводили в ярость политики, игравшие в свои игры, когда войска на фронте истекали кровью. Решив проявить твердость, царь распорядился прервать заседания Думы на несколько месяцев.[2106] Наученная опытом 1905 года, оппозиция не обращалась за поддержкой к рабочим, и роспуск Думы прошел относительно спокойно; таким образом, вопреки предсказанию П. Н. Дурново, антиправительственная кампания не вызвала массовых революционных выступлений.[2107] Разгромленные русские армии потеряли в летней кампании 1915 года 2,4 млн. солдат, в том числе 1 млн. пленными. Деморализованные и не понимающие смысла войны солдаты массами сдавались в плен. Начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Н. Н. Янушкевич писал военному министру: «Получаются сведения, что в деревнях… уже отпускают новобранцев (призыв 15 мая) с советами: не драться до крови, а сдаваться, чтобы живыми остаться».[2108] Н. Н. Янушкевич добавлял, что солдатам незнакомо само понятие «патриотизм», что тамбовец – патриот лишь Тамбовской губернии, а на общероссийские интересы ему наплевать. Поэтому – тут генерал затрагивал главный вопрос – солдата «надо поманить», пообещать ему земельный надел в 10 десятин.[2109] На заседании 30 июля А. А. Поливанов говорил, что «деморализация, сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры».[2110] А. И. Гучков рассказывал, что бывали случаи, когда целые роты вместо контратаки подходили к позициям противника и поднимали ружья – сдавались.[2111] «Стойкость армии стала понижаться и массовые сдачи в плен стали обычным явлением», – свидетельствует А. А. Брусилов.[2112] Большие потери, массовые сдачи в плен и дезертирство привели к тому, что осенью 1915 года на фронте осталось только 870 тыс. солдат – втрое меньше, чем в начале войны. Ввиду столь тяжелого положения началась мобилизация старших призывных возрастов, 30 – 40‑летних мужчин, отцов семейств. В деревнях при проводах мобилизованных происходили душераздирающие сцены: миллионы похоронок открыли масштабы кровавой бойни и стало ясно, что у уходящих немного шансов вернуться. Произошло 82 бунта, сопровождавшихся разгромами магазинов, вокзалов и полицейских участков: мобилизованные требовали отправить воевать отсиживавшихся в тылу полицейских. Призывники разбегались по пути на фронт; по данным И. М. Пушкаревой, количество бежавших из маршевых эшелонов достигало сотен тысяч.[2113] «Пополнения, посылаемые из запасных батальонов, приходили на фронт с утечкой в 25 % в среднем, – свидетельствует М. В. Родзянко, – и к сожалению, было много случаев, когда эшелоны, следующие в поездах, останавливались ввиду полного отсутствия состава эшелона…»[2114] Характерным свидетельством отсутствия национального единства в расколотой жестоким социальным конфликтом стране было голосование думских фракций трудовиков и социал‑демократов против военных кредитов осенью 1915 года. Л. Хаймсон отмечал, что среди политических партий воюющих стран русские трудовики и социал‑демократы представляли собой единственные парламентские фракции, которые проголосовали против военных кредитов единогласно. «У рабочих отсутствовало ощущение, что они принадлежат к единой нации», – писал Л. Хаймсон.[2115] То же самое, очевидно, можно сказать и о крестьянах. Правительство пыталось заставить солдат сражаться. Были созданы специальные вооруженные команды для доставки мобилизованных на фронт. Была введена смертная казнь за саморанения; солдат предупреждали, что в случае сдачи в плен их семьи лишатся пайков, а сами они после войны будут отправлены в Сибирь.[2116] Приказ командующего восьмой армией А. А. Брусилова гласил: «…Сзади нужно иметь особо надежных людей и пулеметы, чтобы, если понадобится, заставить идти вперед и слабодушных. Не следует задумываться перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или, что еще хуже, сдаться в плен».[2117] Были введены телесные наказания, и солдат стали пороть розгами за мельчайший проступок, например, за самовольную отлучку на несколько часов, а иногда просто, чтобы «поднять воинский дух».[2118] Естественно, что такие меры озлобляли солдат против офицеров и усиливали социальный раскол в обществе. Осенью немецкое наступление остановилось; зимой благодаря налаживанию производства внутри страны и помощи союзников удалось улучшить снабжение армии винтовками и снарядами. Как показывают отчеты военных цензоров, за время зимней передышки настроение солдат улучшилось, и это позволило летом 1916 года бросить армию в наступление. Летняя кампания 1916 года превратилась в новую кровавую бойню, и если верить данным Генерального штаба, то потери убитыми и ранеными были лишь немногим меньшими, чем в 1915 году. Для характеристики морального состояния солдат особенно показательны потери пленными: в 1916 году эти потери составили 1,5 млн. солдат – притом, что армия не отступала, как в 1915 году, а наступала.[2119] О распространении добровольной сдачи в плен говорят многие историки, опирающиеся на анализ фронтовой корреспонденции.[2120] Эта тема широко представлена в письмах офицеров: «Представится случай, охотно идут в плен, а тем более, что против нас австрийцы», «австрийцы очень часто переходят к нам в плен, наши тоже не спят: как только начальство заглядится, так и уходят» и т. д.[2121] Характерно также одно из солдатских писем: «От чистого сердца сознаюсь, что почти все солдаты стремятся попасть в плен, особенно в пехоте… Почему наша Россия оказалась в таком плохом положении, а потому, что наше правительство заглушило жизнь бедного крестьянина, которому не за что класть свою голову…»[2122]
Рис. 8.4. Динамика «ухода в плен» (тыс.). [2123]
Современными исследователями подсчитано, что в целом за время войны Россия потеряла 3,9 млн. пленными, в 3 раза больше, чем Германия, Франция и Англия вместе взятые. На 100 убитых в русской армии приходилось 300 пленных, а в германской, английской и французской армиях – от 20 до 26, то есть русские сдавались в плен в 12–15 раз чаще, чем солдаты других армий (кроме австрийской).[2124] Особенно характерна динамика «ухода в плен» начиная с октября 1916 года, когда в условиях распутицы, а потом зимы, бои на фронте практически прекратились. В этот период началось «голосование ногами» – как видно из графика на рисунке 8.4, количество уходящих к противнику быстро росло и в феврале 1917 года достигло 148 тыс. человек. После революции появилась надежда – и в марте число пленных упало до 19 тыс. Помимо сдачи в плен, массовый протест принимал и другие формы. Резко возросло число дезертиров, по некоторым оценкам, к началу 1917 года оно составляло 1,5 млн.[2125] Отмечались случаи отказа частей идти в наступление («забастовки солдат»), братания с солдатами противника. В солдатских письмах все чаще встречаются угрозы посчитаться с «пузанами, которые сидят в тылу».[2126] Летом 1916 года, по словам прибывавших на побывку солдат, на фронте были широко распространены слухи о том, что «после войны… будет война внутри России из‑за того, что все богачи откупились и не несут военной службы, а сидят дома».[2127] В последние месяцы 1916 года цензоры Казанского военного округа отмечали в своих отчетах, что «такого уныния, как теперь, в корреспонденции с театра войны еще не было. 2,5 года войны, по‑видимому, произвели свое действие, озлобив всех. Нет доверия к власти, нет и веры в себя. А остается лишь место для протеста, который может вылиться в нежелательные формы».[2128] В отчете за январь 1917 года был приведен отрывок из солдатского письма, отражающий, по мнению военно‑цензурной комиссии, типичное настроение солдат: «Мы здесь на фронте проливаем кровь, терпим разные лишения и кладем жизнь, а там на нашей крови… купцы‑спекулянты строят свое благополучие и счастье».[2129] Осенью 1916 года Петроградское жандармское управление отметило факты начавшегося разложения армии: массовую сдачу солдат в плен, дезертирство и вражду солдат к офицерам[2130] – характерное проявление обострения социальной розни. В октябре 1916 года произошли восстания нескольких тысяч солдат на тыловых распределительных пунктах в Гомеле и Кременчуге; возможность большого солдатского мятежа становилась все более реальной [2131]. Еще более опасным для властей было положение на флоте. Генерал‑губернатор Кронштадта Р. Вирен писал в Главный морской штаб в сентябре 1916 года: «Достаточно одного толчка из Петрограда, и Кронштадт вместе с судами, находящимися сейчас в кронштадтском порту, выступит против меня, офицерства, правительства, кого хотите. Крепость – форменный пороховой погреб, в котором догорает фитиль – через минуту раздастся взрыв… Мы судим, уличенных ссылаем, расстреливаем их, но это не достигает цели. 80 тысяч под суд не отдашь».[2132] «Ситуация в армии становилась все более безнадежной, – свидетельствует А. Ф. Керенский. – В январе 1917 года насчитывалось 1200 тысяч дезертиров, и число это постоянно росло. В армии шла самовольная демобилизация. Высшее командование было бессильно остановить разбегавшихся по домам солдат. Создавались особые отряды военной полиции для отлова дезертиров… Исчезла всякая воинская дисциплина. Целые роты отказывались сражаться… Солдаты то и дело покидали траншеи, братались с немцами, иногда уходя вместе с ними».[2133] Характерно, что процесс разложения русской армии не ускользнул от внимания германского генштаба и учитывался в оперативном планировании.[2134] Таким образом, к началу 1917 года два фактора кризиса, о которых говорилось выше, – падение авторитета власти в результате военных поражений и ненадежность войск как следствие предшествовавшего войне Сжатия и военных тягот – подготовили почву для революции.
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 75; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.190.160.221 (0.034 с.) |