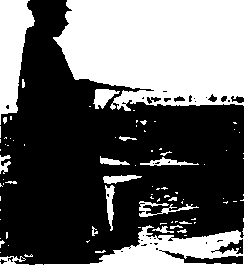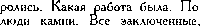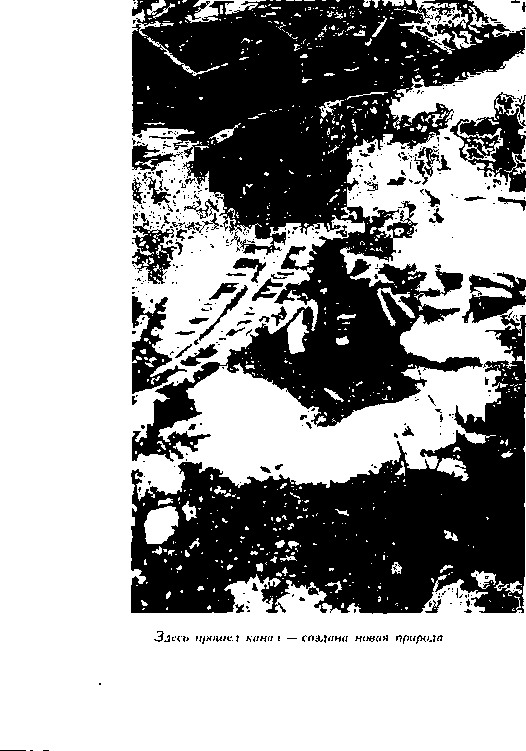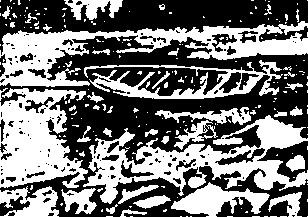Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Стрелок вохра заканчивает рассказ
Тот товарищ ошибается, который думает, что Белбалт‑канал – это было место вроде курорта. Работа была трудная, героическая работа Вот например работа с отказчиками. Отказчики – это самые отпетые из тридпатипятников. Воровские атаманы, головорезы. Они за гордость считают, соревнуются между собой, кто больше в тюрьмах просидел. Надоест ему сидеть в изоляторе на урезанном пайке, он и записывается в трудколлектив. На работу он выходит, а с работы норовит удрать. Люди
землю возят, лес рубят, а он в кусты, засядет с друзьями в яму, и режутся в карты. А то «журят», блатные разговоры ведут. Зазевался часовой, они и в лес сыграют и в город. А если контрик, так и на финляндскую границу. Такие бегуны – враги всему трудколлективу! Ребята работают, надрываются, темпы показывают, высокую выработку дают, а бегуны‑отказчики эту выработку снижают. Тут вохровец должен зорко глядеть, и в этом деле большинство заключенных на стороне вохровцев. В иных договорах о соцсоревновании сами заключенные вводят пункт: не бегать. У кого больше беглых – тот проигрывает. Нам было поручено важное дело – охрана сооружений. Видали, какие на канале плотины и перемычки? Иная плотина больше Волховстроя. Вполне может быть, что «какой‑нибудь злоумышленник захочет подорвать плотину. А ведь тогда вся работа насмарку. Вода не только шлюзы смоет, но и другие плотины прорвет. На каждом серьезном объекте у нас пост. Стрелки смотрят зорко. Был случай: видит стрелок – рабочие кладут бетон, а в бетон загоняют скобы. И вот кинулось стрелку в голову: а не вредят ли ребята? Не угомонился, пока его не убедили, что так и надо. Тревога за канал, за плотину была у всех у нас. А то вот выходит коллектив на работу. А двух‑трех как не бывало, где делись? А они, оказывается, залезли под пол. Разобрали доски, нырнули под пол и сидят. Тоже вохровцы должны следить. Ну, а охрана на дорогах – смотреть, кто куда едет, что куда везут. На этапах то же. Заключенные сами просят дать им стрелка в провожатые: так, говорят, сохраннее. На посту стрелок стоит и в дождь, и в бурю, и в ночь, и в метель, и в мороз. Не легкое дело. А иногда и опасное дело. Вот я расскажу несколько случаев из работы вохровцев. Однажды в лагере «Перековка» пришли в помещение охраны два писаря из контриков. Вошли, разговаривают. Один все старается отвлечь стрелка разговором. Стрелок обернулся, а другой схватил топор в углу – ударил, стрелок упал. Тогда второй выхватил у него из рук ружье – и бежать.
Поднялась тревога. Всюду были устроены засады. Настиг‑нули убийцу. Те отстреливаться. Один из них убит в стычке. Оказался петлюровцем и бандитом. Вот нынешней зимой на одной командировке двое из заключенных подошли, схватили стрелка сзади, обезоружили и отвели в лес за полтора километра. Здесь велели ему раздеться догола, взяли винтовку на прицел и командуют: – Вправо, бегом! Стрелок побежал, а бандиты в другую сторону. По дороге убили женщину и железнодорожного сторожа. Добыли лошадь, наган и двинулись к станции. Ну, тут их и застукали. А то вот пришли двое отказчиков из изолятора, спрашивают стрелка: – Разрешите, товарищ, закурить? Он дал им огня, и они пошли рядом. Стрелок парень здоровый, не дурак, видит, что‑то ребята хитрят с ним. Один идет рядом, а другой все норовит зайти сзади... Стрелок отскочил в сторону и взял их на изготовку. Тот, что был сзади, пригнулся и прыгнул, но стрелок успел выстрелить. Но таких случаев было немного. Даже с отказчиками вох‑ровцы умели сговориться. Бывало, ведут отказчиков в изолятор. Не хотят ребята работать – и крышка. Так стрелок по дороге уговорит. И вот партия вместо изолятора обратно на работу приходит. Вот Орлова например, тоже ведь «Ваньку валяла», а какой слесарь сейчас! Прямо жжет. Влюбишься в такого слесаря. Женишься – не пожалеешь! Когда же поднималась тревога или начинался штурм, нельзя было удержать ребят. Случился как‑то пожар в Надвоицах. Горели авральные ворота. Я был в это время в казарме. Народ по тревоге без команды хлынул к шлюзу. Не устоять было в казарме – все равно бы со всеми вынесло. Самое сильное воспоминание – это ночной штурм в Надвоицах, когда прорвало перемычку, которой был перехвачен Выг. Надвоицкая плотина – все озеро держит. Сколько было трудов, чтобы преградить путь воде, поставить перемычку. А вода давит. Такие камни сносит, что кажется машиной не поднять. И вот как‑то ночью обошла вода перемычку, прососалась сбоку и стала обходить плотину.
Восемнадцать часов продолжался штурм. Люди с водой бо‑
пояс в холодной воде таскали и ВОХР, и управленцы, и начальство – все до одного человека. Вода под ряжи набивалась. А ряжи – это громадные деревянные клетки, набитые камнями. Перебросили по ним доски, и по этим доскам над водой бегают люди с тачками, камни вниз сбрасывают, а вода, как бешеная. Бросишь камни, а она их, как солому, смывает. Прибежал я к берегу. Вижу, черная лодка на проволоке по черной воде, как взбесилась, танцует. Даже страшно стало. Пошли мы работать ночью в холодную воду. Волна с ног сбивает, а мы несем камни, грунт в тачках гоним. А потом по доскам над водой. Факелы светят. Вода золотом загорается. А в стороне черно и рвет, как буря. Наши на штурм все ушли кроме дневального, охранявшего оружие. Все без команды работали, без отдыха. И победили все‑таки воду. Спасли мы Надвоицкий узел, и была у нас самая большая радость и самая большая гордость, какая только может быть.
МУЖИК И ВОЛ
Так деревянный век Беломорстроя родил век железный. Люди, которые работали на мехбазе, в большинстве случаев были люди или из воровской или из деревянной проселочной старой России. Был на Украине кулак Балабуха. Были у него сивые волы со спокойной поступью, с раскидистыми рогами. Было у него хозяйство с наемными рабочими, с волов трех шкур не драл, а с батраков драл. Когда раскулачивали Балабуху, он сильно агитировал, сопротивлялся с оружием в руках и оказался на Беломорстрое. На Беломорстрое сперва делал он тачки около мехбазы, а потом раздувал в мехбазе горн, а потом стал слесарем. Работал у станка не хуже других. Около Медвежьей горы есть совхоз. Балабуха был ударником, имел право выхода из лагеря. Пошел гулять в выходной день. Идет. Вспаханное поле навело на него тоскливые воспоминания. А тут стадо, а в стаде сивый вол. И идет этот вол к нему, мычит, лижет ему ласково руки. И узнал Балабуха своего вола. Взял Балабуха вола за рога, положил голову между рогами и начал плакать. Поплакав, пришел на мехбазу к Руденко и стал проситься: отпустите меня работать в совхоз. Там у меня вол – земляк. Говорит ему Руденко: – Работал всю жизнь вол на мужика, мужик – на вола. Крутились они немазаным колесом, – зачем тебе это дело, когда ты слесарь второй руки? Подумал Балабуха и сказал: – Ладно. Буду я ходить к волу в гости по выходным дням. Так кончался на Беломорстрое деревянный век, и наступал век металлический. ★
ГЛАВА
7 КАНАЛОАРМЕЙЦЫ
КАНАЛОАРМЕЙЦЫ
НА ВЫГЕ ■ ■ ■ Серая ночь переходит в день. Ветер дует с Белого моря, прорываясь между островами. Волнуется мелководное озеро. Карельские рыбаки посматривают на подымающиеся валы, чтобы во‑время уложить весла в воду. Озеро – «Чорт». Куда ни глянь – всюду серая тяжелая вода, падая и подымаясь, бежит с севера на юг. Грозная северная вода. Рыбацкие лодки изредка мелькают у того берега. Пароходов не видно. Где уж там! Даже маленькому пароходу не пройти по такому мелкому озеру. Из этого озера вытекает река Выг. У самого истока она расщепляется островом на два рукава, бежит по камням, по порогам, шумит, кидается пеной и падает Воицким ревуном в правом рукаве около Надвоиц.
Весной начали перегораживать реку Выг. Работа пожалуй одна из самых трудных на Беломорстрое. В истоках реки были поставлены ряжи. Ряжи были прозрачные, так называемые американские. Они давали небольшой подпор воды. Ряжевая работа началась гораздо ранее, чем значилось это по общему плану. Рискнули начать вместо мая в марте. Затем к ряжам стали подсыпать камень. Середину хотели закрыть сразу, но закрыть не смогли, потому что надо было пропустить сплавной лес. А вода уже начинает подыматься. В весеннее половодье присыпать камень нельзя, а не присыпать – страшно... Расчет очень проблематичный. Следи за ряжем, как он себя ведет, – дрожит, не дрожит, а если дрожит, то как дрожит. А дрожать он должен, потому что под ним бьет вода... Местные жители наблюдали с берега: – Зря время переводят. Мало им порогов в Карелии, еще один хотят сделать. Из Управления Белбалтлага в правление Мурманской железной дороги послали по линии извещение, чтобы позаботились о воде для станций. Местным жителям сообщили, что скоро реки Выг не будет – Тунгуда и Сорока пусть готовят колодцы. Жители смеялись: – Испокон веков была река и впредь будет. Размеренно, без суматохи, плотники из бригады Вельманова вбивали последние железные скрепы в соединенные крест‑накрест ряжевые срубы. – Раз, два‑а, взяли!.. И первый ряж лениво подался с насиженного места. Между работающими скользил Пустовойт – руководитель работы. – Налегай, да ровнее. Каток‑то под правый борт подложи. Уронишь этого идола, канал тебя ждать не будет. ...С плотов и баркасов полетели внутрь ряжа увесистые осколки диабазовой скалы. Под тяжестью их сруб медленно спускался на дно реки, а возбужденные первой победой люди забирались на самый верх качающегося еще сруба и наращивали на него новые венцы, пока днищем своим ряж не опустился на подводные камни. Послали второе уведомление, что реке Выг скоро конец. Жители ответили: – Хватит, уж слышали. По проложенным на новом мосту рельсам забегали вагонетки. Они останавливались у пролетов между ряжами и сбрасывали в воду многопудовые осколки взорванного диабаза. Выг разбивался о камни на мелкие струйки, но продолжал борьбу, находя себе дорогу через зазоры. Земля была верным союзником гидротехники. Она заполняла собой пустоты между гранями камней и создавала поперек течения непроточные стены.
Наступающие ударники грабарками и тачками подбрасывали на земляную петлю, стягивающую шею Выга, все новые и новые кубометры. Ударники топтали грунт ногами, утрамбовывали его окованными болванками, загоняли в дно остроконечные сваи. Но река все‑таки жила. Восьмидесятиметровый по ширине своей Выг принужден был устремлять воды в четырехметровый пролет между ряжами, единственный, оставшийся незасыпанным. Сюда‑то и была направлена вся предсмертная злоба реки. Строители были уверены в своей окончательной победе и не ожидали удара в спину. А старый Выг собрался с силами и на глазах застывшего от неожиданности Пустовойта сдвинул с места центральный, главный опорный ряж № 5. С хрустом разломило крепко сколоченное сооружение. Верхушка его, прихваченная мостовыми креплениями, повисла в воздухе. Корпусом же своим тысячепудовая махина покорно опрокинулась на соседний ряж. В тот день и в ту ночь весь лагерь был поднят на ноги. И Андрейка Бугаев, вместе с лучшими ударниками трассы, бросился на прорыв. Выг снова был укрощен. Пришел наконец день, когда перегороженный клетками из деревянных брусьев с каменной засыпкой Выг не смог прорвать плотину – она стала глухая. Вода за плотиной убывала. Рыба, не успевшая уйти из обжитых мест, била хвостом о голые камни. Удивленные жители оглохли от неожиданной тишины. Последними каплями плакал умирающий водопад. Лагерники корзинами таскали рыбу в бараки. Более предприимчивые раскладывали костры, собираясь готовить уху. Засолили шесть пудов первосортной семги. Жители увидели обычное дно с обычными обкатанными валунами, и все же новый мир вынырнул из‑под воды. Легковерам казалось, что их жизнь почти не изменилась. Построили плотину – и все. Они еще не ощущали, как канал вторгся в их быт, в их жизнь, в их будущее. Они ужинали не в охотку и спать долго не ложились, все чутко прислушиваясь – может еще зашумит водопад. Скептики предсказывали, что плотину прососет. Мыслимая ли вещь – перекрыть реку и держать такое озеро. У людей еще по привычке шумела в ушах река, и они настороженно приподнимали палец. Все замолкали, и становилось невыносимо тихо. Тогда, не сговариваясь, люди двинулись к плотине. Была северная ночь, одна из тех, которые принято называть белыми. Около плотины стоял часовой. На плотине сутулая тень смотрела в сторону Выга. Ветер размывал волосы, хлопал длинными полами шинели. Крестьяне узнали Успенского. Они замолкли и стали отступать от плотины. Успенский повернулся в их сторону. – Смотрит, пойдем, – позвал чей‑то робкий голос. Успенский, перепрыгивая по ряжам, по шатким настилам, шел к ним. – Ну? Хотите посмотреть? Не бойтесь, – воду заперли крепко. – Он протянул руку первому шагнувшему к нему на мостки. Выг был заперт. Вода подымалась.
ОЗЕРО ПОДНИМАЕТСЯ
Полоска воды между кормой и берегом увеличивается. Пристань Май‑губы отходит. Катер режет волну.
Мы на озере Выг. Озеро длинно, широко. Название – водохранилище – к нему не подходит. Оно кажется необъятным, а между тем запасы воды вычислены, измерены, взяты на учет. Воды в озере мало. Беломорскому каналу нужно больше воды. В озере пять миллиардов кубометров, каналу требуется семь миллиардов. Гидротехнические сооружения – плотины и дамбы – поднимут горизонт озера с восемьдесят второй горизонтали до восемьдесят девятой и даже до девяностой. Это значит, что к моменту пуска канала озеро поднимется на семь метров. Плотина у Надвоиц, закрывшая выпадение Верхнего Выга, Май‑губские, Летиручейская дамбы уже делают свое дело. Горизонт озера Выг повышается с каждым днем. Ежесуточно вода поднимается в среднем на два сантиметра. С июля по август она поднялась на метр. На первый взгляд это незаметно, но мы знаем – вода поднимается. Озеро спокойно, неподвижно. Один за другим возникают острова. Их много. Они покрыты густым лесом. – Входим в зону затопления, – говорит заместитель начальника четвертого участка ББВП. Два дерева стоят в воде. – Затонувший остров, – поясняет моторист. – Две недели назад мы по нем ходили. Сучья на деревьях обрублены по самый верх, и кажется, что деревья оставлены только как вехи. – В прошлом месяце все дороги знал, а теперь, – разводит руками капитан, – все перепуталось. Старые острова ушли под воду, новые – появляются каждый день. Вот, смотрите, Гранитный остров. Третьего дня на нем еще лес был. А сейчас лесной утиль дожигают. Люди в белых парусиновых плащах с капюшонами на голове, с палками в руках тормошат костры. Большой остров. Поля засеяны рожью и овсом. Дома без крыш, наполовину разобранные, имеют жалкий вид. Русло реки обнажи.госъ – Деревня Ловище. Восемнадцать домов уже перевезены в Сегежу.
– Овес хороший. – Не соберут. Через месяц затопит. Останется одно кладбище вон там, в соснах на горке. Оно стоит на высоте девяностой горизонтали... Нагоняем лодку. Двое едут на Юг‑губу. Берем их на борт. Они с ящиком. Оба парня из трудколлектива «Маяк». – Яйца везем с Сев‑губы – премия за ударную работу. Низенький коренастый в ковбойской вишневой рубашке с зелеными клетками – председатель коллектива Виноградов. Высокий с пшеничными волосами – лучший ударник, рекордист Кочергин. – Нам равных нет, – говорит Виноградов. – Светим, так светим. Три недели по горло в воде работаем. Позавчера дали двести девяносто... Васька четыреста процентов – четыре нормы отбухал. Встречаем торфяную глыбу. – Было здесь сто десять га болот, – рассказывает едущий с нами лесотехник. – Восемнадцатого июня я ходил по этим болотам. А теперь вот что получилось. Пролетает стая встревоженных уток. – Зашухерились, – говорит Виноградов. – Нет им теперь покоя. Только найдут себе новую хазу, а мы шасть – и опять ищи другую квартиру... Мы ведь эти острова, как куриц, общипываем. Раз‑раз – и можете спускаться на дно. Я год назад плюнул бы в глаза тому, кто мне сказал бы, что я лесорубом буду, зону затопления очищать... Квартиры чистить – это было по нашей части. Я, бывало, в любой дом залезу... Недаром кличка моя – Бацилла. Два раза из домзака срывался. Один раз – из сибирских лагерей. Погуляешь – подзайдешь по новой – и, глядишь, опять здесь. – Теперь не побежишь? – Что вы... Я теперь свободно езжу – доверяют. Прошлое ушло в воду вместе с островами. На Юг‑губе около тысячи человек. Все рецидивисты. – Раньше по ширмам ударяли, а теперь – ударники, герои великой стройки: Наш лагпункт второй месяц знамя держит. Краснознаменные. – Мало книг, – жалуется воспитатель. – Лермонтова никак не могу получить. Проходу не дают: давай Лермонтова. У меня авторитет падает. Завхоз просит подбросить картошки, дегтю, керосину. Мокро. Пилы ржавеют. – Керосину в первую голову, – поддерживают каналоар‑мейцы. – Ржавой пилой большой процент не выработаешь... Рядом с пристанью на маленьком плоту – шалаш из дранок. В шалаше – бригада сплавщиков Громова. Бригада из одной молодежи. Все бывшие воры. – Раньше мы плотов и в кино не видели. Не знали, как к бревну подступиться. Научились. Сортируем. Сплачиваем. Ведем кошели лучше карелов. Норма была тысяча двести бревен – подняли до двух с половиной тысяч. Большая черная лодка быстро идет к шалашу. Четкие взмахи весел. Голые торсы. Удалая, залихватская песня: Загремели ключи, фомки... Па‑а‑ра сизых голубей. Деловые едут с громки... Стро‑ого судят скокарей. – Песня блатная, – как бы извиняется скуластый Громов. – От блатного ремесла легче отвыкнуть, чем от блатной песни. Входим в шалаш. Невысокие настилы, свернутые постели. В центре – железная печка в железном тазу. На покатых стенках – фотографии, ручные зеркала. На самом верху – портрет Сталина в белой рубашке. Вокруг – гитара, мандолина, две балалайки, черный радиорепродуктор. Рядом с печкой – ведро с водой, в нем плещутся живые окуни. Едем дальше. Покачивает, дует низовка. На часах – полночь. На озере – день. Только нет солнечного сверкания. – Обратите внимание – исторический остров Городовой. В смутное время на нем разбитые литовцы жили. Потом – раскольничий скит. Больше его никто не увидит. И мы смотрим на уходящую под воду историю. Вдали – огоньки селений.
– Все будущие утопленники. Самые древние селения на озере. Проходим мимо Карельского острова. Огромный остров с поймами и лугами – целый материк – он пуст. Из сорока домов осталось два. Появляются большие черные бревна. Это – топляки‑одиночки, оторвавшиеся от кошелей. Опасная встреча – удар в обшивку – пробоина и садись на дно. Катер замедляет ход, и багры отпихивают бревна. Крутой берег. Койкинцы – оперативный штаб зоны затопления. На высоких шестах плакат: «Вода наступает – не терять ни одной минуты!» Причаливаем к мосткам, взбираемся на пригорок. Половинки домов. Печи и трубы стоят без стен. Штабели перемеченных бревен. Рядом с деревянной часовней – непотревоженная изба. Она словно отго^южена невидимой стеной от всего, что происходит в двух шагах. – Старуха тут древняя со стариком живут. Ни за что не хотят с места тронуться. Старуха – местная ворожея. Спадет, говорит, вода. Брат старика в другой половине живет, – хоть завтра перевозиться, а эти не хотят ни в какую. Катер дает сигнал. Мы идем на Пукшу. Пукши не узнать. Из ручейка, затерянного в болоте, она превратилась в широкую реку. Входим в устье. Промеряем глубину. – Три с половиной. Два. Дна нету. Идем со скоростью шестнадцати километров. Весь левый берег в огне. Дожигаются лесные остатки. Снова на озере. Держим курс на Телекинку. И Телекинка неузнаваема. Устье стало большим, как морской залив. Над затопленными болотами – главный судовой ход. У входа в Телекинку опускается в воду остров Сеговец, На нем ветхие, брошенные, никому не нужные дома. Дома уйдут в озеро вместе с островом. Будут стоять на дне его. Рыбы заплывут в раскрытые двери и окна. Поворачиваем на Май‑губу. С нами едет завхоз из лагпункта на Телекинке. Вода поднимается всюду. Старый По‑венецкий тракт затоплен. Деревни Телекино и Петров‑Ям перевезли дома на Мармассельгу. Около двух тысяч га лесной площади уже затоплено. Всего станет добычей воды около пятидесяти тысяч га. Дует сильный зюйд, качает, роет ямы, временами винт вращается в воздухе. Проходим мимо обреченных, с которыми мы уже попрощались, – Койкинцы, Карельский остров, Габ – Наволок, Хим – Пески. Они доживают последние дни под солнцем. Широко разольется озеро. Оно затопит почти сто километров полотна Мурманской железной дороги, которая была когда‑то построена пленными австрийцами и русскими каторжниками.
МУРМАНКА ПОСТОРОНИЛАСЬ
Неподалеку от трассы канала, по старой Мурманке тянутся поезда – товарные, пассажирские, скорые. Ночное небо, багровое от огней, отблеск прожекторов встречает поезда около станции Тунгуда. – Что это? – спрашивают пассажиры. – Канал, Беломорский канал, – отвечают им. Кондуктор из Кандалакши – унылый скептик. Из окна вагона много не увидишь. Трасса канала только у Тунгуды подходит к полотну дороги. – Канал, канал... Ям накопали – вот‑те и весь канал. – Что канал. Канал растет. Мурманка старая у Май‑губы под воду уходит. – Как уходит! – восклицает кондуктор, – а поезда? – Поезда идут посуху, как им и полагается. Поезда по рельсам катятся... – Так рельсы, вы говорите, под водой?
– Ничего подобного. Ре.\ьсы на полотне, а полотно новое, сделано оно беломорстроевцамн за полтора месяца. Двадцать два километра за сорок пять дней – ничего темпы! От Сегежи до Май‑губы уже с месяц движение по новому пути идет. Давно не были в этих местах? – Какое там давно! В мае меня направили в Петрозаводск на глазную операцию. Пролежал до июля. Потом два месяца в Крыму. Я в крушение попал. – Четыре месяца – срок большой. Наши обходники уже на северном участке орудуют – там до шестидесяти километров переносить придется. Вот и к Сегеже подъезжаем. – Смотрите, – кричит кондуктор. – Верно, ведь по новому пути идут, раньше вон где полотно шло. И мост новый и станция на новом месте. Чудеса! На Май‑губе прощаемся и выходим из вагона. Ман‑губская станция вся новенькая. Платформа, лестница, здание станции, склады, шпалы – словно из‑под рубанка. Переходим пути. Идем но бревенчатому настилу – дорога на старую Май‑губу. Полчаса ходьбы, и мы у цели. Каменные четырехугольники фундаментов. Разбросанные бревна. Груды камня и кирпича. На земле следы снятых рельсов. На пустом ящике сидит старик и меланхолически смотрит на подступающую воду. Кругом безлюдье. В отдалении кучи щебня, торчащие столбы – все, что осталось от поселка Май‑губа, перенесенного в Сегежу. Вода Выгоэера пробирается на пепелище поселка. Мы садимся на моторную дрезину и несемся по старой Мур‑манке, вдоль территории, на кото^юй стояла старая Май‑губа. Стык, стрелка, светлая насыпь. Мы на новом полотне Мурманской железной до^юш. Местами оно щи ¡ходит в скалистом коридоре, всюду оно идет но возвышенности. Новенькие насыпи сменяются потемневшими епюмми. Надвоицы, Шавань. Мы мчимся на северный участок Мурманки – Идель, Онда, 0\импий, Парандово. 10 Лак. 1193 – Як вам навстречу на своем ковре‑самолете, – говорит начальник работ по переносу дороги инженер Дели. Мы рассматриваем ковер‑самолет – крошечную дрезину Дели. Железная рама на четырех колесах, дощатый настил с мотором. Скорость семьдесят пять километров. – Легко снять с рельсов. Вот и летаю с участка на участок контрабандистом без всякого жезла. На поворотах иногда сбрасывает – недавно под встречный скорый поезд чуть не попал. Зато экономия времени – огромная. Дели садится к нам. Он рассказывает: – На южном участке грунты были хуже, но паровозов больше – в сутки до сорока поездов с землей пропускали. Здесь на северном обход глубже, местами до двух с половиной километров. Кроме того мало выемок, мало карьеров – местные резервы маломощны и неудобно расположены. И ко всему этому: идем болотами – чортову массу осушительных каналов приходится рыть. – Когда думаете кончить? – По плану срок 1 ноября. Если подбросят рабсилу (у меня сейчас большой недобор) и Мур манка не будет мариновать груженые составы, – кончим на месяц или полтора раньше. Начало северного участка нового пути, на который через два месяца перейдет все движение мурманской магистрали. Начинается густой, высокий лес. Арка в сосновых гирляндах. «Дадим до срока путь стальному коню». Наверху на сшитом из досок щите – паровоз и на груди паровоза, в медальоне, портрет Сталина. За аркой начинается новенький городок – Идель. Входим в лагерь. Большинство лагерников вернулось с работы. У доски с производственными показателями галдеж. Разноязычный лагерь, русская, украинская, татарская речь, среднеазиатский говор, кавказские наречия. – Нацменов у меня много, – говорит Дели. – Сначала ими баи да муллы командовали, на саботаж подбивали. А потом беднота, ранее втянутая в басмачество, увидела, что баи присланную из дома баранину жрут, а у них брюхо пустое, – взялись за ум. И воспитатели помогли, трое из них знают нацменские языки – контрреволюционную агитацию политграмотой перешибли. Снова выходим на полотно железной дороги. Свежий яркий песок, чисто обтесанные шпалы. Даже гравий кажется отборным и тщательно промытым. Рельсы старой Мурманки сверкают далеко в стороне. – Дорога на костях! – говорит Дели. – Карелы рассказывают, что военнопленных, работающих на постройке дороги, хоронили сотнями. Каждый метр – могила. А у нас на десять тысяч ни один не умер, только животами болели, пока не отучились сырую воду пить. Дорога на костях! Кто строил Мурманку в 1914–1915 годах? Тоже заключенные. Строили каторжники, строили военнопленные. Как строили? Вот рассказ Левитануса, бывшего организатора и председателя трудколлектива на Беломорстрое. «Мне сейчас желательно сделать маленькое сравнение с былым, давно прошедшим. В 1914 и 1915 годах я, будучи заключенным, был прислан на строительство Мурманской железной дороги. Заключенных было около двух тысяч. Кроме того полторы тысячи военнопленных. Работа наша и военнопленных проводилась так: мы все стояли в песчаном карьере, к нам подходили платформы, на которые мы грузили песчаный грунт. Этот песок сопровождали вольные женщины и в указанном месте отгружали его. Над нашими головами, т. е. на поверхности забоя, стоял конвой двух видов. Нас охраняла тюремная стража, а военнопленных – военный конвой. Подрядчики, которым мы были вверены, крутились около нас. Они соблазняли нас всяческими обещаниями, чтобы мы лучше работали. Однако арестанты и военнопленные не двигались с места. Тюремная администрация возглавлялась Введенским, который временно был переведен в качестве начальника работ. Введенский служил в Крестах помощником начальника. Ежедневно по окончании работ люди пачками направлялись в карцер: вели тех, которые не успевали нагружать известное количество платформ в течение дня. Недовыполняющих оказывалось ежедневно человек 700– 800. Карцеры были сделаны из землянок. В карцере надзиратели зачастую били арестантов. Сидящим в карцере горячая пища не полагалась. Еженедельно производился обмен, штрафников‑карцерников направляли в тюрьму. Тех, кого переводили в тюрьму, тут же сажали в тюремные карцеры на долгое время. Порядок тюремного карцера был таков: трое суток штрафник просиживал в тюремном помещении безвыходно, питаясь одним хлебом, на четвертые сутки его переводили в светлое помещение на один день. Потом возвращался обратно в темное помещение. Штрафники получали преимущественно по 28 суток карцера. Интересно было бы, если на Беломорстрой попал бы Введенский или те подрядчики, которые вели строительство Мурманской железной дороги. Я уверен, что у них бы вылетели глаза из орбит от удивления». Озеро Выг наглухо загорожено, можно итти пешком, можно скакать на коне по руслу реки Выг. Обнажены пороги и скалы, деревья качаются на белых берегах. Реки нет, есть каменистая, извилистая впадина. Тишина. Но вот снова грохот работ. Тачки, грабарки, груды камня и диабаза. Что это? Мы подошли к сооружению Шаваньской плотины. Плотину эту проектировал и строил один из осужденных по делу Среднеазиатского водхоза – инженер К. М. Зубрик.
ПУТЬ ИНЖЕНЕРА ЗУБРИКА
Металлическая звездочка на погоне может иной раз определить мировоззрение человека. Выслужившийся в прапорщики телеграфист из нищей мещанской семьи начинает воображать себя призванным защищать исконные дворянские привилегии, проникается некоим феодально‑мистическим духом, готов с оружием в руках отстаивать честь своего жалкого офицерского мундира эпохи оскудения всех и всяческих интендантских запасов. Он примысливает себе новую, пышную биографию. Он готов думать, что его многолетнее честное служение телеграфному делу было всего лишь печальным эпизодом в жизни молодого, родовитого дворянина и что мировая война, выведшая его из безвестности, явилась чем‑то вроде богатого наследства, дарованного ему за его гордое смирение. Он постоянно и настойчиво упражняется в этой своей пышной биографии, она прочно внедряется в его ассоциативную систему, сквозь нее продергиваются нервные волокна, проходят кровеносные сосуды. Это могло бы послужить отличным сюжетом для водевиля, но время для водевилей было неподходящее: грянула Октябрьская революция. А революция – дело серьезное. Дорвавшийся до «звездочки» телеграфист становится страшен. Он зарвался до того, что готов перегрызть горло каждому, кто только покусится на высокое его звание. Он вступает в офицерскую заговорщическую организацию. Если в полку к нему относились с некоторым презрением, то здесь все равны. Тут он на одном счету с бывшим своим полковым командиром, с бывшим питомцем пажеского корпуса, с князем, носящим двойную фамилию. И князья, и пажи, и генералы охотно предоставляют разночинцам умирать за свои поместья и привилегии. Они поощряют его в его претензиях. Наконец‑то он в высшем свете! Правда, для этого мало было мировой войны, – потребовалась революция. Именно революция и загнала его в высший свет. Но революция, пролетарская революция – дважды и трижды серьезное дело. Юный дворянин попадает в ВЧК. Там быстро и отчетливо разобрались в роскошной его биографии. Ему дают возможность исправить свои заблуждения под условием немедленного и решительного отказа от всяческого феодализма. Если он не круглый дурак – он благодарит за полученный урок и смиренно садится за телеграфный аппарат. Революции также нужны телеграфисты. Если же он круглый дурак – он умирает рядом со своим отцом‑командиром с возгласом: «Долой узурпаторов! Да здравствует государь император!» Примерно по тому же принципу, что и офицерская каста, построена каста инженерская. Разница разве только в том, что прием построения офицерской касты более обнажен. Точнее – глупость кастовых принципов офицерства более явственно глупа. Кастовые принципы инженерства рассчитаны на более сложный интеллект. Климент Михайлович Зубрик, сравнительно молодой инженер из пролетарской среды, до шестнадцати лет служил ремонтным рабочим на железной дороге. В 1905 году он получил диплом агронома. В 1913 году перешел на гидротехнику. После Октября 1917 года он сразу усвоил стиль человека, пострадавшего от революции. Ему было только двадцать семь лет, но при выборе стиля он не пожелал прибегнуть к помощи своей памяти. Прежняя его среда никогда не представляла для него социальной ценности и была всего лишь тем препятствием, которое ему удалось взять в своей юности. Он не только не гордился своим происхождением из рабочей среды, напротив, он гордился именно тем, что преодолел эту среду. И теперь он был жестоко ущемлен. Суть этого ущемления заключалась в следующем. Самое значительное жизненное усилие было им сделано в ту пору его жизни, когда так называемые «низшие классы» находились еще под двойной опекой: хозяина и царя. Зубрику удалось прорвать этот двойной кордон и – по тогдашней терминологии – «выйти в люди». Из грязи – в князи. Из ремонтных рабочих – в инженеры. Это сделанное им по‑истине огромное жизненное усилие стало основным фактом его биографии. На таком прочном основании можно спокойно строить чувство собственного достоинства в твердой уверенности, что его достанет на всю жизнь, даже если иссякнут все прочие питающие душу источники. Ах, это усилие, сделанное в юности! Оно обладает куда большей эмоциональной мощью, чем прославленная первая любовь. Оно является неиссякаемым животворным источником, питающим все дальнейшие усилия, которые приходится делать человеку на его жизненном пути. Но Зубрику не повезло. В октябре 1917 года, когда ему едва исполнилось двадцать семь лет, его юношеское усилие вдруг разом утратило всякую ценность. Оно просто перестало котироваться. В один прекрасный день убрана была вся та обстановка, которая сообщала биографии инженера Зубрика ее своеобразие и моральную значимость. Не стало низших классов. Уже в каком‑нибудь 1926 году инженер из пролетарской среды отнюдь не представлял собой редкостного явления. Если до того Зубрик был равнодушен к рабочему классу и, как сказано, видел в нем только барьер, успешно взятый им в юности, то теперь он пребывал в постоянном против него раздражении. Молодые инженеры пооктябрьской эпохи представлялись ему наглыми выскочками и невеждами, почти даром получившими те блага, ради которых он, Зубрик, должен был сделать свое великое усилие. В то время инженер Зубрик мог смело протянуть руку своему коллеге из военной среды. Несмотря на значительную разницу в культурном уровне, они поняли бы друг друга с полуслова. Да и весь дальнейший жизненный путь свой – по крайней мере до порога внутренней тюрьмы ОГПУ – они могли бы без особых разногласий пройти рука об руку, плечо к плечу. Но этим страдания инженера Зубрика еще далеко не исчерпывались. Отменены были не только низшие классы, но и высшие. Усилие Зубрика утратило наряду с моральной и всякую практическую ценность. Революция под самый корень подрезала все его надежды на жизненное устройство в том виде, в каком он привык его мыслить. Это жизненное устройство он отождествлял всегда с проникновением в ту касту крупных инженеров, которая представляла собой генеральный технический штаб российского капитализма.
|
|||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.202.167 (0.117 с.) |