
Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Роль искусности в деле поэтаСодержание книги Поиск на нашем сайте
Итак, нельзя научить писать стихи. Для того чтобы стать поэтом на деле, нужно быть еще “поэтом в душе”, а не только владеть словом. Однако недопустимо впадать и в иную крайность и вообще отрицать “искусность” в поэзии. Мастерство необходимо поэту. И если нельзя научить писать стихи, вполне возможно рассказать о том, как пишут стихи (отсюда и название книги).
Н.Коржавин — вольно или невольно — выступает против самого понятия мастерства, “искусности” в поэзии, против самого того факта, что, как он пишет, “к стихам предъявляют определенные формальные требования”, то есть оценивают их с точки зрения словесной образности, строения фразы, ритма, рифмы, звуковой организации и т. п. Он недвусмысленно утверждает, что творческая деятельность исчерпывается приведением себя в особое “состояние”, когда поэту открывается “нечто такое важное, высокое”, и задача поэта — всего лишь “только точно почувствовать и выразить свое существо” [См.: “Новый мир”, 1961, № 3. С. 243-246 и далее]. Можно бы привести много подобных суждений из статьи Н.Коржавина. Но не случайно так неудачно ее название — “В защиту банальных истин”; под “истинами” автор имеет в виду истинное понимание сущности поэзии. Истина не может быть банальной! Банальной может быть только частная, односторонняя правда. Н.Коржавин прав, когда он говорит, что сами по себе формальные ухищрения не ведут к поэзии. Но это именно банальная и узкая правда. Истина гораздо сложнее, и она никогда не станет банальной, всегда будет заставлять думать, искать, сомневаться.
Напомню в этой связи великолепное рассуждение Михаила Пришвина: “Есть книги для всех, и есть книги для каждого. Для всех — учебники, хрестоматии; для каждого книга — это зеркало, в которое он смотрится, и сам себя узнает, и познает в истине. Книга для всех учит нас, как нам надо за правду стоять. Книга для каждого освещает наше личное движение к истине. Правда требует стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте, к истине человек движется. Правды надо держаться, — истину надо искать” [М. М. Пришвин. Собр. соч. в шести томах. Т. 5. М.: Гослитиздат, 1957. С. 418]. В своей статье Н. Коржавин разбирает известное всем стихотворение Пушкина “Я вас любил: любовь еще, быть может...” Он противопоставляет его искусным, “изобретательным” стихам — в частности, стихам А.Вознесенского, — где много метафор, сравнений, эпитетов, где создан сложный, изощренный ритм, звучные рифмы и повторы, необычное строение фраз, неожиданные словосочетания и т. п. “технические” ухищрения. В отличие от этого, утверждает Н.Коржавин, стихотворение Пушкина предельно просто, непосредственно, безыскусно; все в нем “высказано прямо, без всяких ухищрений”, “максимально ясно”. В нем как бы вообще нет “техники”, нет искусности в собственном смысле этого слова. Но зато, продолжает автор, “сколько есть в этом стихотворении такого, чего нет в восьми строчках текста”. Все дело в “подтексте” стихотворения. А “подтекстом является все то, что связано с мыслью, конкретным чувством, породившим стихотворение; но присутствует в нем незримо, как бы не имея к нему прямого отношения”. Но как можем мы воспринять то, что “незримо”? Как прочитать то, чего нет в “тексте” — то есть в материально, предметно существующем стихотворении Пушкина? Нельзя сомневаться в том, что “мысль” и “конкретное чувство”, породившие стихотворение, осуществлены и существуют в нем вполне “зримо”, реально — в его “тексте”, в его стихотворных фразах. Но не будем пока разбирать общетеоретический смысл рассуждений Н.Коржавина. Обратимся к самому стихотворению Пушкина. Н.Коржавин считает, что в этом стихотворении поэта — в отличие, например, от сочинений А.Вознесенского — нет никакой искусности, никакой изощренности.
Для меня совершенно ясно, прежде всего, что стихотворение Пушкина неизмеримо искуснее стихов А.Вознесенского. Более того, в “Я вас любил...” перед нами предстает принципиально иная ступень, иной, неизмеримо высший уровень искусности. Стихотворение Пушкина исполнено в очень сложном и строгом ритме, обладает поразительно тонкой синтаксической, интонационной и звуковой структурой. В нем воплотились многообразные “ухищрения”, причем ухищрения именно “формальные”. Говоря об искусности этого стихотворения, нам придется иметь дело с различными категориями и понятиями (и, естественно, терминами) поэтики — учения о литературной форме. Кажется целесообразным начать как раз с общей характеристики формы стихотворения — пусть и не каждому читателю все будет сразу ясным. Ибо именно так можно показать важность отдельных понятий, убедить в том, что их нужно знать всем интересующимся поэзией. Итак, обратимся к стихотворению Пушкина. Прежде всего, оно написано сложнейшим стихотворным размером — пятистопным, ямбом. Ямб (что, очевидно, известно многим) — это такое ритмическое строение стихотворной фразы, при котором ударения падают на четные слоги строки (второй, четвертый и т. д.).
Я в а с люб и л: люб о вь еще, быть м о жет... [здесь и далее жирным шрифтом выделены ударные гласные]
Иногда думают, что в строке ямба ударными являются все четные слоги (т. е. 2, 4, 6, 8 и т. д.). Но это неверно. Такое чередование ударений просто невозможно в русской речи, где одно ударение приходится в среднем лишь на три слога. Ударения на всех четных слогах строки — это исключение: из каждых десяти строк, написанных ямбом, лишь одна-две имеют ударения на всех четных слогах [Из этого ни в коем случае не следует делать вывода, что невозможность выдержать все ударения на четных слогах налагает какие-то “ограничения” на поэтов, пишущих ямбом. Ибо поэты вовсе не стремятся к такому “полноударному” ямбу, как к некоему “идеалу” (подобное стремление характерно лишь для некоторых поэтов первой половины XVIII века). Полноударный ямб не является идеалом, нормой или образцом ямба; он всего лишь одна из возможных форм этого многообразного и гибкого стихотворного размера]. Даже в приведенной только что строке Пушкина, строго говоря, не все четные слоги ударены: слово “еще”, в сущности, лишено ударения, оно сливается со словом “любовь” в одно фонетическое слово (“любовь-еще”), как, скажем, и слова “я-вас” или “быть-может” в этой же строке. То есть ударными в этой строке являются 2, 4, 6 и 10-й слоги. Итак, в ямбе ударения падают на четные слоги, но вовсе не обязательно на каждый из них, кроме последнего слога в самом конце строки. Ритм обеспечивается уже тем, что ударения падают обязательно на четные слоги. В строке пятистопного ямба десять или одиннадцать слогов. Ударения могут падать, скажем, на 2, 8, 10-й слоги, или на 4, 8, 10-й, или на 2, 6, 10-й и т. п. Как уже говорилось, невозможно, не совершая насилия над русской речью, постоянно выдерживать все четные ударения. Но мало того: трудно также написать ямбические стихи, в которых ударения будут падать хотя и не на все, но на какие-то определенные по порядку слоги (например, все время будут ударными именно 2, 6, 8, 10-й). Для этого пришлось бы очень равномерно распределить слова по их длине, по их слоговой структуре. В пятистопном ямбе порядок ударных слогов обычно то и дело меняется, варьируется.
Однако в стихотворении Пушкина этот порядок очень точен: за исключением всего двух случаев ударения в каждой строке падают на 2, 4, 6 и 10-й слоги. Стройность и упорядоченность ритма еще более возрастает оттого, что в каждой строке после четвертого слога (на котором всякий раз заканчивается какое-либо слово) есть отчетливая пауза, так называемая цезура. Прочитаем стихотворение, отмечая для себя ударные слоги и цезуры:
Я в а с люб и л: / люб о вь еще, быть м о жет, В душ е мо е й / уг а сла не совс е м; Но п у сть он а / вас б о льше не трев о жит; Я не хоч у / печ а лить вас нич е м. Я в а с люб и л / безм о лвно, безнад е жно, То р о бостью, / то р е вностью том и м; Я в а с люб и л / так и скренно, так н е жно. Как д а й вам Б о г / люб и мой быть друг и м.
Итак, стихи Пушкина предельно стройны и организованны с ритмической точки зрения. Конечно, само по себе это еще не является свидетельством искусности поэта. Чудо искусности обнаруживается в том, что при всей стихотворной упорядоченности и организации речь поэта совершенно естественна. Попробуйте хоть что-нибудь изменить в его речи: порядок слов, интонацию, синтаксический оборот, форму глагола или существительного — и окажется, что при этом не только нарушится ритм, но и сама речь станет менее естественной, обретет какую-то нарочитость, неоправданную усложненность. Это действительно чудо искусности: Пушкин, казалось бы, просто говорит, просто ведет речь о чем-то и в то же время эта речь оказывается стройными и гармоническими стихами... Вспомним слова героя повести Пушкина “Египетские ночи”: “...Талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами?..” В одном из писем Пушкин рассказывает: “...Тут посетили меня рифмы, я думал стихами...” Думать и говорить как бы прямо и непосредственно стихами — это и есть высшая искусность поэта. Если пристально вглядеться, вчувствоваться в это размеренное движение:
Я вас любил: любовь еще, быть может...
в конце концов рождается впечатление настоящего волшебства: русская речь как бы сама, естественно, непроизвольно, без усилий вылилась в строгую и музыкальную ритмическую форму! Но на самом-то деле это совершило несравненное искусство Пушкина.
Восхищаясь этим искусством, Лев Толстой говорил: “У Пушкина не чувствуешь стиха; несмотря на то, что у него рифма и размер, чувствуешь, что иначе нельзя сказать”. В слабых же стихах чувствуешь, “что то же самое можно сказать на тысячу различных ладов” [Цит. по кн.: Н.Гусев Два года с Л.Н.Толстым. М., 1912, с. 237]. И в самом деле: точнее, естественней и короче, чем сказал Пушкин, не скажешь. Но странно заблуждается Н.Коржавин, полагая, что здесь нет никакой формальной искусности, никакой “техники”. Нужно обладать удивительной искусностью, чтобы создать такое стихотворение. Вернемся на путь сравнения, предложенного Н.Коржавиным, — обратимся к стихам А.Вознесенского. Ну, хотя бы вот к этим достаточно популярным строкам:
Я — Гойя! Глазницы воронок мне выклевал ворог, слетая на поле нагое. Я – горе. Я – голос. Войны, городов головни на снегу сорок первого года… и т.д.
За окном кариатиды, А в квартирах — каблуки... Балок крылья реактивные Прошибают потолки! и т.д.
Или:
Туманный пригород, как турман. Как поплавки милиционеры. Туман. Который век? Которой эры? Все – по частям, подобно бреду. Людей как будто развинтили… Бреду. Верней - барахтаюсь в ватине… и т.д.
Как пулеметы, телефоны Меня косили наповал. И, точно тенор — анемоны, Я анонимки получал... и т.д.
В этих крепко сделанных строках, “мастерства”, казалось бы, хоть отбавляй. Сложно завинченные ритмы, диковинные сравнения и ассоциации, изощреннейший фонетический строй. Более всего, пожалуй, бросается в глаза именно последнее — звуковые повторы, обильное нагнетание своего рода внутренних рифм. На два десятка процитированных строчек приходится не двадцать (как чаще всего бывает в рифменном стихе), а более трех десятков созвучных слов различного типа: Гойя — нагое — горе — голос; городов — г о да; вор о нок — ворог; войн ы — головни; кариатиды — квартирах — крылья — реактивные; каблуки — потолки; туманный — турман — туман; милиционеры — эры, бред у — бр е ду, развинтили — ватине, пулеметы — телефоны — анемоны, а также; анемоны — анонимки; получал — наповал и т. д. Эти фонетические эффекты, эта звуковая инструментовка рифменного типа может показаться верхом искусности, полной и свободной властью над речью. Однако на самом деле такие стихи писать неизмеримо легче и проще, чем те, которые мы только что рассматривали (я не сравниваю Пушкина и А.Вознесенского по существу, я говорю лишь о “технике”, лишь о чисто формальной искусности). Почему же легче? А потому, что в таких стихах заранее приняты определенные ограничения, определенные “правила игры”. У А.Вознесенского нет речевой свободы; он именно и только слагает стихи, занимается стихосложением. Здесь ни на минуту не возникает ощущения естественной речи: все заранее подчинено размеру и рифмам, и их чувствуешь прежде всего. А такие стихи не являются подлинной поэзией: это скорее своего рода игра в поэзию (об этом и сказано было — впервые — в статье Н.Коржавина). Чем отличается вообще всякая игра от человеческой деятельности в собственном смысле? Тем, что она выговаривает себе известные условия, которые кардинально упрощают и облегчают исполнение поставленной цели. Так, например, ставится задача поймать и подчинить себе “противника”. Но для этого не нужно, скажем, крепко схватить его и донести на плечах к месту старта игры: достаточно слегка тронуть его рукой, “осалить”, и он покорно принимает свое поражение.
Так и в стихах А.Вознесенского: он не идет по труднейшему пути истинной поэтической деятельности, при которой речь естественно выливается стихами. Он, например, подбирает созвучные слова, более или менее подходящие (иногда, впрочем, и совсем неподходящие) по своему значению к теме стихотворения, и вставляет их в строку, Стараясь не нарушить заданного ритма. В одних случаях это получается более удачно, более гладко, в других — хуже (например, в строках “глазницы воронок мне выклевал ворог...” ради внутренней рифмы дан нелепый оборот). Но дело не в удаче или неудаче; дело в самом принципе “игры в поэзию”. Все “приемы”, используемые А.Вознесенским, вполне уместны и в истинной поэзии, но лишь в том случае, когда они рождаются органически и, в частности, не нарушают естественности речи. Обратимся к тем же стихам Пушкина. Н.Коржавин считает, что в них нет никаких “ухищрений”. Но это совершенно неверно. Вглядимся, например, в эти две строки:
Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим...
Они созданы с тончайшей искусностью. Безмолвно — безнадежно и робостью — ревностью — это вполне определенные созвучия, это не бросающиеся в глаза, но несомненные “внутренние рифмы” [Правда, во времена Пушкина никто не назвал бы их рифмами; осознание такого типа “рифм” произошло лишь в XX веке. Но это не меняет дела.]. Еще более интересна общая структура этих двух строк. Они построены так: “Я вас любил — безмолвно — безнадежно = то робостью — то ревностью — томим”. “Я вас любил” как бы перекликается с “томим”, а созвучные слова первой строки с созвучиями последующей. Строки словно глядятся в зеркало, где левая сторона оборачивается правой. И это создает тончайшую симметрию. В то же время ничем не нарушается естественность и органичность речи. Можно бы указать множество других “ухищрений”, содержащихся в стихотворении Пушкина. Один из лучших современных исследователей поэтического творчества пишет: “Кто только не обращался к пушкинскому восьмистишию “Я вас любил...” для подтверждения идеи о вечном очаровании “простоты”. А так ли уж тут все просто?.. Не надо очень пристально всматриваться, чтобы заметить притягивающее, прямо привораживающее воздействие трехкратного “я вас любил” (пять раз “любил”, “любовь”, “любимой” — всего в пределах двух катренов!) и роль прорывающегося сквозь мерную элегическую пассивность расчета обращенного к себе повелительного “я не хочу”. Здесь настоящее время, сегодняшняя подавленная боль — и это разом опрокидывает мнимое прошедшее (“любил”)... Только всматриваясь, начинаешь приближаться к смыслу “непостижного уму” творчества... Исходный трепет, говоря словами Пушкина, ищущей “как во сне” души, поток волнующихся “в отваге” мыслей обретает свою определенность в лирическом выражении” [В.Д.Сквозников. Лирика. — В кн.: “Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении”. М., 1964, с. 177—178]. В конце своего рассуждения исследователь несколько отошел от “техники” как таковой. Но всмотримся по его совету в стихи Пушкина. Обратите внимание на первое полустишие каждой строки (то есть четыре слога до цезуры):
Я вас любил: || любовь еще, быть может, В душе моей || угасла не совсем; Но пусть она || вас больше не тревожит, Я не хочу || печалить вас ничем.
С точки зрения звучания три полустишия весьма близки: я-вас любил; в-душе моей; но пусть она. И вдруг совсем иное звучание: поскольку на “не” отсутствует ударение, акцент неизбежно получает “я” — пусть слабый, уступающий по внятности основным ударениям. И четвертое полустишие звучит так: я не-хочу. Таким образом, положение В.Д.Сквозникова о “повелительном “я не хочу”, прорывающемся сквозь “мерную элегическую пассивность”, относится не только к чисто смысловому движению стиха. “Повелительность” воплощена в самом звучании, в ритмическом строе стиха, то есть в “технике”. После трех однообразных мерных полустиший мы ощущаем отчетливый перебой, который глубоко содержателен. Можно рассмотреть и еще более тонкие и скрытые черты пушкинской искусности. Вглядитесь во вторую строфу:
Я вас любил || безмолвно, безнадежно, То робостью, || то ревностью томим; Я вас любил || так искренно, так нежно, Как дай вам бог || любимой быть другим.
Мы уже говорили о ритмической стройности пушкинского ямба. Но вот еще более сложное ритмическое явление: вторые полустишия (за исключением начального) построены совершенно одинаково. Во всех них выступают четырехсложные слова (фонетические): то-ревностью, так-искренно, любимой-быть. И это создает такую высшую, полную стройность стиха, которая, без сомнения, не могла возникнуть “случайно”, без участия целеустремленной поэтической искусности. А как симметрична и упорядочена система рифм! Все нечетные рифмы инструментованы на звук “ж”: быть может, тревожит, безнадежно, нежно, а все четные — на звук “м”: совсем, ничем, томим, другим. Иногда читатели видят в фоническом оформлении стиха только один, элементарный смысл: звукоподражание. Но это как раз весьма редкий и не очень существенный аспект дела. Звуки многозначны; в каждом отдельном стихотворении они выступают в совершенно особенной роли. Кроме того, чаще всего разнообразные созвучия вообще не имеют вполне определенной значимости: они просто участвуют в создании “музыки” и гармонии стиха. Именно такую роль играет и указанная звуковая перекличка рифм. Или вот еще пример. Во всем стихотворении, кроме одной строки, нет звука “ч” Но в одной строке, об особой выделенности которой уже шла речь, звук этот повторяется три раза, создавая уже весь звуковой рисунок строки:
Я не хочу печалить вас ничем.
Но не будем разбирать стихотворение дальше [Обращу еще внимание на специальный анализ ритмико-синтаксической структуры этого стихотворения в исследовании М.М.Гиршмана “Стихотворная речь”, вошедшем в книгу “Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Стиль. Произведение. Литературное развитие” (М., “Наука”, 1965, с. 352—353). Здесь идет речь о моментах, которых мы совсем не касались]. И так уже, вероятно, ясно: стихи Пушкина — плод высокой искусности. Однако дело не только в этом. Выше отмечалось, что искусность Пушкина совершенно иного порядка и уровня, чем, например, искусность А.Вознесенского. Это проявляется вот в чем: сама эта искусность Пушкина спрятана, скрыта, утаена от нас столь искусно, что далеко не всякий ее заметит. Вот почему не прав Н.Коржавин, когда он утверждает, что прекрасные стихи Пушкина созданы “без всяких ухищрений”, все в них высказано “прямо”, ““максимально ясно”, в них нет никакого собственно “формального” мастерства. Н.Коржавин противопоставляет Пушкина как поэта с богатым и глубоким “содержанием” тем авторам, у которых содержание бедно и поверхностно, хотя они и “владеют стихом виртуозно”. Но это совершенно ложное противопоставление. Не владея стихом, нельзя создать поэтическое произведение с богатым и глубоким смыслом (я еще постараюсь в дальнейшем доказать, почему это так). Однако не только в этом дело. Ведь именно Пушкин-то как раз и владеет стихом - уж возьмем это не оченьполноценное слово — виртуозно. Он так творит сложный и стройный ритм и инструментовку, что мы с трудом их замечаем, настолько органически и естественно рождаются они в речи. Вот, скажем, А.Вознесенский пишет:
И, точно тенор — анемоны, Я анонимки получал.
Это так называемая “находка”, в которой не имеющие настоящей эстетической культуры читатели видят подчас самую суть поэзии. В стихотворении Пушкина (повторяю, речь идет только о “технике”!) есть “внутренние рифмы” примерно того же типа, что и только что рассмотренные: “безмолвно — безнадежно”, “робостью — ревностью”. Но в их появлении (а оно имеет свой глубокий художественный смысл) нет абсолютно никакой нарочитости. Они родились словно с такой же органичностью, как похожие и симметрично расположенные листы на ветви дерева. Очень важен и сложен вопрос о том, бессознательно или осознанно, непроизвольно или “нарочно” создал эти созвучия поэт; об этом мы еще будем говорить особо. Но нельзя не привести здесь строки Пушкина из набросков к восьмой главе “Евгения Онегина”; поэт вспоминает в них о том, как началось его творчество:
Простите, игры первых лет! Я изменился, я поэт, В душе моей едины звуки Переливаются, живут, В размеры сладкие бегут.
Мог ли написать так Пушкин, если бы для него не имела значения самая форма стиха, сами эти “сладкие размеры”, эти стройные созвучия? “Говорят, что в стихах — стихи не главное,— с возмущением отметил однажды Пушкин.— Что же главное? проза? должно заранее истребить это гонением, кнутом, кольями...” [А.С.Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т.. т. 10. М., Изд-во АН СССР, 1958, с. 128] Но какой же эти созвучия имеют смысл? Ведь, читая стихотворение Пушкина, мы их вроде бы даже не замечаем, не слышим... Зачем же они? Впрочем, это неверно, что мы их не слышим. Мы не слышим их, так сказать, изолированно, в их отдельности и самодовлеющей ценности. Созвучие “анемоны – анонимки” действительно слышно нам как таковое, и оно довлеет себе, им самим по себе исчерпывается его смысл и значение. Между тем, не слыша самих по себе созвучий Пушкина, мы прекрасно слышим ту стройность, красоту, гармонию стиха, которую они (точнее, в частности и они) создают. И нередко даже удивляемся — откуда же эти, так внятные нам стройность и гармония? Ведь не могли же они возникнуть из ничего... У Пушкина чаще всего скрыты, утаены даже наиболее “эффектные” формальные “ухищрения”. Сошлюсь на меткое наблюдение известного стиховеда Г.А.Шенгели. Он так разбирает строфу из стихотворения, вошедшего в повесть “Египетские ночи”:
Клянусь, о матерь наслаждений, Тебе неслыханно служу, На ложе страстных искушений Простой наемницей всхожу...
“Здесь звуки слова “наслаждение” как бы расплесканы в дальнейших словах, “нслн”, “слж”, “нлж”, “сж” (слова “неслыханно”, “служу”, “на ложе”, “всхожу”)... Еще:
Эй, казак! не рвися к бою: Делибаш на всем скаку Срежет саблею кривою С плеч удалую башку.
Звуки слова “делибаш” (по-турецки — безумная голова, сумасброд), группа “длбш” полностью повторена в словах “удалую башку” [Г.Шенгели. Техника стиха. М.: Советский писатель, 1960, с. 264—265]. Без исследовательского анализа невозможно разглядеть эти блестящие образцы инструментовки, создающие красоту и обаяние данных строф. Хотя мы неизбежно слышим “музыку”, созданную ими, сами эти элементы формы, как таковые, незаметны. Здесь мы подходим к исключительно важному вопросу — вопросу о соотношении формы и содержания в поэзии. Эти слова для многих звучат скучновато. И это не случайно: в работах о поэзии проблема содержания и формы часто излагается поверхностно и именно потому скучно. На самом деле это интереснейшая, глубокая и острая проблема, без понимания которой невозможно разобраться в природе поэзии и вообще искусства. Кстати сказать, главная ошибка уже цитированной статьи Н.Коржавина коренится именно в ложном представлении о взаимосвязи содержания и формы. Итак, займемся этими основополагающими понятиями теории поэзии (и искусства в целом).
Глава третья Содержание и форма поэзии
В течение многих веков люди, говоря о поэзии и изучая ее природу, в сущности, почти не разграничивали понятия содержания и формы. Речь шла о произведении в целом. Именно так построены дошедшие до нас труды о поэзии и искусстве, созданные мыслителями и художниками античности, средневековья, Возрождения и даже более позднего времени. Это не означает, что наши далекие предки вообще не различали в произведении искусства формальной и содержательной сторон. Но эти стороны в их представлениях были так тесно и нераздельно связаны, что они рассматривали их совместно, в одном ряду. Строгое разграничение понятий “содержание” и “форма” было совершено лишь теоретиками XVIII и, особенно, начала XIX века. Решающую роль сыграла в этом немецкая классическая эстетика и, прежде всего труды Гегеля. К “содержанию” были отнесены “внутренние”, порождаемые восприятием поэзии в нашем сознании явления — мысли, чувства, стремления, образы людей, событий, вещей, природы и т.п. Так, например, “содержание” пушкинского “Я вас любил...” — это, говоря кратко и упрощенно, мысль об истинной любви, которая так высока, что желает возлюбленной счастья даже с другим, - это и само сдержанное, но полное скрытого неугасающего огня чувство любви, проникающее все произведение; это как бы последнее решение “больше не тревожить” возлюбленную и в то же время потаенное, но достаточно ощутимое постоянное стремление к ней, и внятное сомнение в том, что кто-нибудь еще сможет любить ее так; это, наконец, встающий перед нами живой духовный облик того, кто говорит все услышанное нами, и неясный, но все же мелькающий в стихотворении силуэт его возлюбленной. Под “формой” же подразумевались все “внешние”, воспринимаемые нами непосредственно элементы произведения — все составляющие его звуки и звуковые повторы, ритм в его многообразных проявлениях, интонация, общее строение речи, слова, их сочетания (в том числе так называемые тропы — сравнения, метафоры, эпитеты и т. п.), композиция — то есть взаимное расположение и связь отдельных частей и т.д. Такое четкое разграничение содержания и формы (и их элементов) является в последние полтора века необходимым условием для каждой работы о поэзии, для всякого, кто изучает поэтическое творчество. Само по себе это разграничение было необходимым и очень существенным шагом вперед в науке о поэзии. Оно позволило глубоко и тщательно анализировать отдельные стороны и элементы произведения. Но в то же время оно стало почвой разнообразных ошибок, неточностей, искажений. Многие и многие исследователи поэзии словно забывали, что понятия “содержание” и “форма” — это созданные нами же абстракции, что реально поэтическое произведение едино и нераздельно. Разграничение содержания и формы уместно и даже необходимо на исходном, начальном этапе изучения поэзии, на этапе анализа; но конечной стадией исследования является синтез — целостное понятие о поэзии, о реальности поэтического произведения в его единстве. Читая произведение, мы непосредственно воспринимаем именно и только его форму. Но каждый элемент этой формы и сама система элементов всецело значимы, имеют свой определенный “смысл”. И этот смысл в его цельной полноте и есть содержание произведения. Таким образом, форма не есть нечто самостоятельное; форма — это по сути дела и есть содержание, как оно является вовне для нас. Воспринимая форму, мы тем самым постигаем содержание. Выше уже приводилось ошибочное утверждение Н.Коржавина, будто в стихах Пушкина не только есть много “такого, чего нет в восьми строчках текста”, но и это нечто, отсутствующее в тексте, является даже основным, главным в стихотворении. Н.Коржавин полагает, что содержание (“мысль, конкретное чувство”) присутствует в стихотворении “незримо”. Но если дело обстоит именно так, каким образом мы могли бы увидеть это “незримое”?!Как можем мы узнать то, чего нет в тексте. Н. Коржавин говорит, что, помимо текста, есть еще “подтекст”. Этим понятием вообще злоупотребляют. Оно уместно, пожалуй, лишь в том случае, если текст, взятый с самой внешней точки зрения, кажется несовместимым со своим внутренним смыслом. Так, например, иногда внешне шутливые стихи на самом деле имеют горький, даже трагический смысл. Здесь еще уместно говорить о “подтексте”. Однако даже в этом случае недопустимо понимать “подтекст” как нечто такое, что находится буквально, в прямом смысле слова “под текстом” — то есть не в самом тексте. Ибо трагический смысл стихотворения, которое при поверхностном восприятии кажется только шутливым, существует не в чем ином, как в том же самом тексте (иначе мы и не постигли бы никогда этот смысл!). Слово “подтекст” означает только то, что для истинного понимания сложного стихотворения необходимо по-особому воспринять текст, увидеть в нем приглушенные, завуалированные с определенной художественной целью оттенки и тона. К стихам же Пушкина “Я вас любил...” термин “подтекст” вообще едва ли можно применить. Здесь как раз нет никакой “вуали”. Это, конечно, вовсе не значит, что стихи не требуют глубокого восприятия, что “текст” их прост и вполне ясен; мы уже видели, как сложно и тонко построена стихотворная речь поэта. О “подтексте” в буквальном, прямом смысле уместно говорить, пожалуй, лишь в тех случаях, когда речь идет о стихах, написанных человеком, лично и близко нам знакомым, тесно связанным с нами. Такие стихи - вне зависимости от их объективной ценности - нередко сильно волнуют нас. Ибо мы видим в них то, чего действительно нет в тексте, мы вносим в них наше знание и нашу любовь к написавшему их человеку. Таким образом, в этих стихах для нас действительно есть подтекст уже в прямом смысле слова. Мы “подставляем” под них то известное нам из общения с автором конкретное чувство, которое породило данные стихи, и которое другой, не знакомый с автором человек никак не сможет увидеть в этих стихах. Но подобные жизненные случаи уже не имеют отношения к поэзии как таковой. В поэзии как раз все должно быть воплощено в тексте — в звуке, слове, ритме, композиции. Неверное представление о природе содержания и формы наиболее разительно выступает, вероятно, в следующем рассуждении Н.Коржавина. Он пишет: “Берется кусок мрамора, и отсекается все лишнее” — так, по известному выражению, создается скульптура. В поэзии этим “куском мрамора” являются чувства, переживания, сама жизнь поэта”. Итак, “материал” скульптора — камень (или иное твердое тело — дерево, металл и т. д.); “материал” поэта — жизнь. Здесь все смешано со странной непоследовательностью. Н.Коржавин не учитывает, что у каждого художника есть два внешних “источника”, два заранее имеющихся “материала” творчества. Один является как бы материалом содержания. Этот материал — сама жизнь в различных ее сторонах и проявлениях (в каждом искусстве жизнь берется, кстати сказать, совершенно с особенной стороны). Другой материал — это материал формы — камень, краска, жест, звук и — в поэзии — слово. Так вот, говоря о скульптуре, Н. Коржавин обращает внимание только на материал скульптурной формы (“кусок мрамора”); между тем, переходя к поэзии, он уже имеет в виду только материал поэтического содержания (“сама жизнь”) [Стоит вспомнить здесь цитированное выше рассуждение из пушкинских “Египетских ночей” о том, что ваятель видит “сокрытого Юпитера” в куске мрамора, а у поэта мысль является уже вооруженная рифмами и размеренная стройными стопами; здесь дано совершенно ясное представление о материале содержания (образ Юпитера, поэтическая мысль) и формы (мрамор, рифмующиеся слова и ритм)]. Это ошибочное представление (в частности, ошибочное и с точки зрения элементарной логики) ведет, в конечном счете, к тому, что Н.Коржавин попросту отрицает существеннейшую, всеопределяющую роль слова для поэзии. Дело идет, разумеется, не о слове вообще, а о слове, освоенном и пересозданном в творчестве поэта. В этом слове, которое, по существу, является уже не словом, как таковым, не языком, не речью, а формой искусства, создается и существует то, что мы называем поэзией. Характеризуя стихи Пушкина “Я вас любил...”, Н.Коржавин пишет: “Человек, ищущий гармонии в обществе и в личной жизни, выражается в этих стихах”. Это сказано, в общем, верно, хотя и слишком узко и абстрактно. Но в поэзии — как и в искусстве в целом — нельзя просто выразить “мысль” о гармонии. Художник, поэт не выражает что-либо; это делает философ, публицист, ученый, в конце концов, ибо они тоже ведь могут “искать гармонию”. Поэт только тогда поэт, когда он создает гармонию в самом своем произведении. А это значит, что гармония должна быть создана, осуществлена, или, пользуясь философским термином, “опредмечена” в самой форме произведения, которую мы непосредственно воспринимаем. Существо поэзии как раз и проявляется, в частности, в том, что поэт не просто высказыв
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.15.118.202 (0.014 с.) |

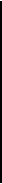 Борясь против формального понимания поэзии, нередко перегибают палку. Ярким выражением этого является, например, статья известного поэта и критика Наума Коржавина “В защиту банальных истин (о поэтической форме)”. Я обращаюсь к этой статье не потому, что хочу оспорить именно точку зрения данного автора, Н.Коржавина. Позиция, высказанная в этой статье, в той или иной форме выступила во многих работах о поэзии, созданных в разное время. Н.Коржавин просто выразил их с особенной последовательностью. Кроме того, статья его, неверная по своей основной мысли, написана серьезно, увлеченно, интересно; многие отдельные соображения автора совершенно правильны. С этой статьей интересно и спорить. И важно спорить, ибо она звучит убедительно.
Борясь против формального понимания поэзии, нередко перегибают палку. Ярким выражением этого является, например, статья известного поэта и критика Наума Коржавина “В защиту банальных истин (о поэтической форме)”. Я обращаюсь к этой статье не потому, что хочу оспорить именно точку зрения данного автора, Н.Коржавина. Позиция, высказанная в этой статье, в той или иной форме выступила во многих работах о поэзии, созданных в разное время. Н.Коржавин просто выразил их с особенной последовательностью. Кроме того, статья его, неверная по своей основной мысли, написана серьезно, увлеченно, интересно; многие отдельные соображения автора совершенно правильны. С этой статьей интересно и спорить. И важно спорить, ибо она звучит убедительно.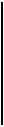 Или:
Или: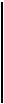 В этой внутренней рифме (анемоны-анонимки) — в отличие от многих других подобных созвучий А.Вознесенского — есть свой смысл, свое оправдание. Сопоставляя эти слова, автор вполне уместно сравнивает себя с модным тенором, которому посылает цветы толпа юных поклонниц. Но все же, как нарочито, как неестественно звучат эти строки! Есть здесь и явное насилие над речью ради ритма (должно было бы быть: “Я получая анонимки, как тенор — анемоны” или, по крайней мере, “И, как тенор — анемоны, я анонимки получал”). Но главное, конечно, в том, что “анемоны” и “анонимки” — это специально подобранное (по “правилам игры”) созвучие, которое заслоняет все остальное. И эти два перекликающихся “изысканных” слова, определяя весь смысл и форму двустишия, дают ему ценность элементарного каламбура — не больше...
В этой внутренней рифме (анемоны-анонимки) — в отличие от многих других подобных созвучий А.Вознесенского — есть свой смысл, свое оправдание. Сопоставляя эти слова, автор вполне уместно сравнивает себя с модным тенором, которому посылает цветы толпа юных поклонниц. Но все же, как нарочито, как неестественно звучат эти строки! Есть здесь и явное насилие над речью ради ритма (должно было бы быть: “Я получая анонимки, как тенор — анемоны” или, по крайней мере, “И, как тенор — анемоны, я анонимки получал”). Но главное, конечно, в том, что “анемоны” и “анонимки” — это специально подобранное (по “правилам игры”) созвучие, которое заслоняет все остальное. И эти два перекликающихся “изысканных” слова, определяя весь смысл и форму двустишия, дают ему ценность элементарного каламбура — не больше...


