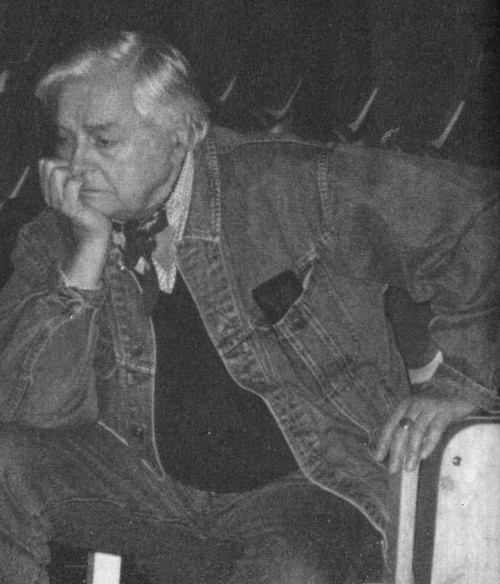Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
В. Золотухин, Л. Филатов, Ф. Антипов
Ф. Антипов
– Что?! Как вы смеете это говорить, что не нужно! Вы хотите, что? – память отнять у нас у всех? Что? Значит отнять память: отнять нашу прожитую жизнь! – И начал кричать: – Я, я Глебов! Я, я Глебов! Я ходил в этот дом, будь он проклят. Я себя так вел, я, я! А он имел всемирное имя. И они замолкли от такого взрыва эмоционального, но пропустили совершенно не по этому, конечно. Они бы закрыли. Не хотели печатать эту книгу, она в журнале была напечатана, а отдельной книгой не хотели ее выпускать – в двухтомнике Трифонова. И мне все время чинили препятствия к выпуску спектакля. Но тут как раз по Москве пошел слух, что он (серый кардинал из Политбюро – Суслов) сказал: – Почему не печатают эту книгу? Эту книгу надо печатать. Мы все страдали, мы все подвергались нападкам Сталина, мы все прожили этот страшный период. Печатайте эту книгу. Этот аргумент я высказал им, и все знали, вся Москва говорила, она же живет слухами, разговорами: Суслов разрешил эту книгу, и я мог тогда жаловаться: почему запретили спектакль. И спектакль нехотя разрешили. Но на все праздники исключали его из репертуара. Трифонов писал очень много в последние годы… И мы уже намечали с ним и третью работу – по его последним рассказам и мемуарам. Я хотел назвать это «Ухо». Почему «Ухо», потому что у него был кусок в воспоминаниях про мастерские художников. И там один тип опустившийся, но такой просоветский, железный – у него ухо похоже на ухо Сталина. И все художники нарасхват его берут как натуру – рисовать уши Сталина. Все ж зарабатывали: портреты Сталина к демонстрациям писали, к праздникам. Это же огромный доход был для всех художников. И он, благодаря этому своему уху, стал знаменитым человеком, и даже протекции оказывал художникам. И когда разоблачили Сталина, он потерял весь свой авторитет, опустился и стал просто пьяницей у ларька. Это должно было стать эпизодом пьесы, которую я хотел назвать «Ухо», потому что это очень многозначное название: ловит, подслушивает, ориентируется. Это должен был быть монтаж – о подслушивающих. У Трифонова нет такого рассказа – «Ухо». С ним было очень хорошо работать, с Юрием Валентиновичем. Он очень охотно шел навстречу, если я его просил что‑то дописать, добавить, что для спектакля не хватало. И вообще, я не могу пожаловаться: все писатели, с которыми я работал, мне доверяли, а многие были моими друзьями, а живые и сейчас заходят.
P.S. Вот Егор Яковлев затеял цикл: «Возвращение на Таганку».
«Три сестры» А. П. Чехова, 1981
Делалось всегда так: если я был очень занят и было какое‑то решение, просьба актеров, «давайте мы начнем это, пока вы заняты, Юрий Петрович…» – так они без меня начинали ряд работ. Я доделывал другую работу, а поручал начать эту. Так было и с «Тремя сестрами». Я приходил к ним на репетицию раз в неделю, когда у меня было какое‑то свободное время. Мне показывали работу, как она продвигается. Так же я принимал участие в работе с макетом. Я вот только не помню: сразу была заказана музыка Эдисону?.. Потому что там был какой‑то музыкальный подбор, я помню, который я весь снял. Там была даже песня Пугачевой про клоуна – у нее была шлягерная песня «Арлекино». И она вроде звучала даже ничего, вызывала какие‑то ассоциации, но всех она чрезвычайно раздражала. Когда я приходил на репетиции, меня поражала невнятность. Все было вяло, равнодушно. Может быть, они решили, что в такой повседневности собственно и хотел выразить Антон Павлович никчемное существование. Но дело в том, что это на сцене было скучно, даже если допустить такое решение. Бывают вялые будни скучные, серые. Но на сцене публика дождется антракта, уйдет – да и все. Теперь во время спектакля могут вставать и выходить – это бывает: кому‑то скучно, он встает и уходит. Хорошо, если тихонечко выходит воспитанный человек, а то и довольно грубо уходят, как бы демонстрируя, что, мол, за скука на сцене творится. Ну вот – было скучно, и весь художественный совет предложил это закрыть совсем и постараться быстрей забыть, как кошмарный сон. И все уговаривали меня, чтоб я не ввязывался. Я говорил: «давайте попробуем все‑таки доделать работу, жалко – полгода или больше длились репетиции». И потом внутренне мне казалось, что все‑таки можно что‑то сделать. Можно. Только надо все это переделать и главным образом, с актерами, чтоб это не было так все неинтересно. Ведь актеры всегда начинают валить на режиссера, режиссер – на них. Короче говоря, я стал репетировать. Я решил выпускать спектакль.
Я стал уточнять места действий, вот тут спальня, спинка кровати, вот это казарма, позволил себе некоторый очень деликатный перемонтаж спектакля – я начинал со слов Маши, что если сосуд пуст, то это и есть пустота нашей жизни. Хотя у Чехова не так начинается пьеса. Просто я обострял ситуацию, почему я и стал работать, почему я ввязался в казалось бы такое безнадежное дело… Во‑первых, мне, конечно, было жаль потерянного времени, ведь столько люди работали. И я подумал: «Ну почему же? Значит, что‑то они для себя не поняли, чем‑то не увлеклись, не нафантазировали как следует». И фактически этим я и занимался. Это выразилось, конечно, в перестройке всех мизансцен, в уточнении места действия: там была деревянная эстрада и ряд стульев перед ней и персонажи как бы были и зрителями. И я выявлял, для чего должен человек выйти на эту маленькую эстраду. С одной стороны, это провинциальный город, и вроде так принято, играет оркестр на маленьких таких сценах, наскоро сделанных в летних садах. Потом я старался всячески подчеркнуть, что это пьеса военная – и у Чехова это есть, что это из жизни семьи военных. И действительно, там все персонажи военные, кроме трех сестер, жены брата и няньки. И мне показалось, что это дало свои результаты. Там была казарма, и они все в шинелях, в форме. Были рукомойники, койки солдатские. И потом, я там нашел такую забавную для себя вещь – опережение событий. Будет дуэль, она уже намечается заранее какими‑то штрихами, что вроде невзначай меряют шаги, как перед дуэлью, вроде невзначай бросают перчатку – вот такие вещи были сделаны. Ряженые. Появлялись маски. Ждали ряженых – и поэтому разговор приобретал уже какой‑то иной характер. То есть шутливое одевание маски и сбрасывание маски – тоже давало какие‑то вещи. Потом я искал внутренние мотивы у каждого персонажа, когда ему хотелось обязательно выйти на эстраду, когда ему действительно хочется что‑то сказать людям. У каждого же человека есть потребность иногда говорить, говорить, высказать какие‑то свои мысли, которые уже его распирают, он не может их в себе держать, он должен найти своего слушателя.
«Три сестры», 1981. Л. Селютина, А. Демидова, М. Полицеймако, А. Серенко (стоит)
Я искал эти моменты и они выходили на эстраду с ними. Все это сразу как бы раздвигало пьесу, ее рамки: вот идет бытовая сцена дома, а вот включаются другие места действия – казарма, эстрада, и они как зрители слушают, переговариваются, как бы оценивая эти выступления, которыми персонаж заявляет самое для себя важное и ценное.
* * *
Там была железная стена немного покрашена и паяльной лампой прописана. И поэтому было впечатление, что это какая‑то старая заброшенная церковь или монастырь разрушенный, он как бы охватывал весь дизайн. И я просил художника сделать это ясней, чтоб можно было разглядеть, что это старые сбитые фрески, чтоб они вызывали какое‑то размышление у зрительного зала. Я сейчас не помню, долго ли длились эти репетиции, но спектакль вышел и шел, наверно, лет двенадцать, пока Губенко не отобрал новую сцену. Этот период театра перед моим изгнанием мне кажется был интересным: «Дом на набережной», «Три сестры», «Высоцкий» и «Борис Годунов». Это четыре интересных работы. И театр это понимал. Поэтому и начальство реагировало сугубо отрицательно на все эти работы, то есть они их не принимали, закрывали. Кроме «Трех сестер». В «Трех сестрах» были внесены незначительные коррективы: там была авоська с апельсинами, с палками колбасы, – ее приносили в дом. Но это было даже нарочно мной сделано, чтоб они набросились, начали кричать:
– Что это за безобразие, что это за осовременивание пошлое! – и так далее. Так и было. Кричали, а я отвечал: «Почему я не могу? Ну купили апельсины… Город провинциальный, привезли апельсины, вот они и купили. Денщик принес. Семья большая, готовятся к именинам…». Это было смешно. Я думаю, если взять протоколы обсуждений, то там есть, как я сражался за эти авоськи, прикидывался: «Почему я не могу себе это позволить?» И потом был комедийный совсем случай, когда кончался спектакль – там было сделано так, что идет тема «В Москву, в Москву!» – в начале спектакля оркестр играет духовой. Огромное окно новой сцены Таганки открыто, и потом оно закрывается, и тогда действительно реально мы понимаем, что потеряна Москва, и действие происходит в провинции. Тогда и понятны их стремления: «В Москву, в Москву!..» – тоскуют они очень по Москве, по столице. И в конце после слов знаменитых Ольги, что «мы должны жить, жить, оркестр играет так весело» – так она говорит, убеждая себя, хотя все очень скверно, а она настаивает усилием воли: «Все равно, несмотря ни на что…» – и так далее, публика понимала иронию этой интонации. И после этих слов публика хлопает – финал спектакля – и сделано было так, что снова открывается окно, и актеры после того, как поклонились, просили зрителя пожаловать в Москву. «Вот это Москва. Мы все говорили: „в Москву, в Москву“ – вы, жители Москвы, идите». И часть публики выходила через это окно – там есть лестница и можно спокойно выходить – вот она, Москва. Это тоже очень не понравилось начальству, но сказать что‑то было трудно, ведь просто предлагают публике выйти – спектакль кончился. И вот один раз открыли окно, а там три пьянчужки примостились, разливают пол‑литра, колбаску режут, лучок. И так они увлеклись своим делом на троих, что не заметили, как открылось окно, и очнулись только под дикий хохот публики. Публика решила, что это так поставлено. Тут же кому следует донесли и меня вызвали:
– Что за дела? Что вы порочите? Это образцовый коммунистический город Москва, а вы такие вещи себе позволяете делать. И мне не поверили, когда я сказал: – Я не был на спектакле, я не видел, я очень рад, что у вас такая прекрасная связь налажена, все вам докладывают, но это действительно какие‑то алкаши туда забрались. Я ничего этого не ставил. Вы же принимали спектакль, этого не было. Но они мне не поверили.
* * *
Сейчас я думаю поставить «Чайку» на новой сцене. Даже макет готов у Боровского. Хороший макет. Конечно, всегда трудно сказать, что из этого выйдет. Но если все будет хорошо, я буду делать. P.S. Но ничего хорошего не произошло. Как раз в тот день, когда в Иерусалиме происходил этот разговор, новое здание театра силой, под прикрытием депутатских мандатов, захватили губенковцы, и теперь там проходят мероприятия коммунистов. В нем поставили «Чайку», но, как написал один злой критик, «она не взлетела и оказалась курицей». Сейчас там коммунисты разных мастери все разваливается. Краденое добро впрок не идет! Пишу строчки эти, дорогой Петр, в Иерусалиме в гостинице легендарного Тедди Колека «Мешкенот Шонониме». Гляжу на башню Давида. Дед твой, Петр, назвал сына своего, первенца Давидом в честь Давида, победившего Голиафа. Брата моего бедного потом травили антисемиты, принимая за еврея. Вот, сын мой, какие дела бывают на этом свете. Но ты у меня кембриджский житель, сдающий трактат о принце датском, и я надеюсь, что эти напасти тебе не грозят. А впрочем, не знаю… Иерусалим. Август 1998 г.
Я – за антидекорацию
Моя нелюбовь к определенного рода декорациям зародилась рано. В годы, когда я еще был актером. Очень противно сидеть на сцене под пыльным кустом и делать вид, что вокруг тебя трава, лес. Ведь как бы ни был одарен художник, изображающий лес, настоящий лес все равно лучше, и живая трава лучше, и дом натуральный – убедительнее. Моя ненависть к бутафории, к тупому иллюстрированию места действия, стало быть, имеет давние корни, вытекает непосредственно из опыта актерской профессии. В самом деле, что для нас важнее в театре – человек, гуляющий в лесу, или лес, в котором гуляет человек? На этот вопрос Адольф Аппиа предлагал ответить каждому режиссеру и художнику еще в начале нашего века. Этот вопрос задаем мы себе и сегодня. Как сделать, чтобы то, что мы показываем зрителю на сцене, выглядело бы гораздо убедительнее, чем в жизни? Как показать войну в спектакле «А зори здесь тихие…», чтобы зритель поверил в происходящее, забыл, что он в театре? Оказывается, выход один. Самим не забывать ни на минуту, что мы в театре, не стараться действовать не свойственными театру средствами, не имитировать действительность, и тогда сильнее чувство правды и жизни на сцене и больше верит нам зритель. Мы с художником Давидом Боровским не пытались маскировать сценическую коробку под настоящий лес, землянку или блиндаж. Сценическая коробка у нас «просвечивает» в этом спектакле, как и во всех других наших работах.
Наш театр не старается сделать вид, что он не то, что он есть на самом деле. Мы откровенны со своим зрителем. Мы сразу предлагаем ему условия игры, как в народном площадном театре. Если на сцене и происходят превращения, то на глазах у зрителей, как бы с их участием. В спектакле «А зори здесь тихие…» мы, например, «обыгрываем» все варианты оформления на остове кузова грузовика. Для нашего театра неприемлема декорация описательная, декорация, безразличная к актеру, как бы вообще забывающая о его присутствии на сцене. Для нас совершенно неприемлемо и оформление, играющее роль рамки, в которую потом задвигают спектакль. И если уж продолжать пользоваться словом декорация, то я скорее за антидекорацию, если под декорацией понимать по привычке нечто украшающее, статичное, пассивное. На сцене может и вовсе не быть декораций, но не значит же это, что мы отказываемся от художника. Просто его работа становится абсолютно неотъемлемой частью синтетического спектакля. Я очень благодарен Л. Варпаховскому, который познакомил меня с художником Д. Боровским. Боровский пришел на спектакль «Павшие и живые», и по тому, как говорил он о нем, обращая внимание на те или иные детали, я понял, что мы с ним сработаемся. Теперь уже позади несколько совместных спектаклей: «Мать», «Час пик», «Что делать?», «А зори здесь тихие…», «Гамлет». Боровский интересно придумывает, но и не боится отказываться от предложенного и вновь переделывать, искать новые решения. Мы с ним прокручиваем всегда несколько вариантов, прежде чем дойти до окончательного. Как в кино, где снимаются многие километры пленки, а монтируют сравнительно короткий фильм. Умение не застревать на первоначальном, идти дальше, развивать, уточняя, углубляя – важное качество Боровского. Каких вариантов только ни испробовали в «Часе пик»! Была фреска со «Страшным судом» Микеланджело из Сикстинской капеллы. Она продолжалась со сцены в зрительный зал. Это было очень впечатляюще, всем нам она очень нравилась. И все‑таки от нее отказались, ощутив несоизмеримость масштабов страстей Микеланджело и автора пьесы. Было предложение – заставить всю сцену сидениями, вытащенными из автомобилей, или поставить круглые выпуклые зеркала, такие, какие устанавливают на разъездах, играть весь спектакль на автокарах, разъезжающих по сцене. А в результате остановились на более простом, может быть, но более эффективном сценически варианте. В центре сцены поместили маятник с циферблатом. Это знак времени. Но это и своего рода вещь, с которой работают актеры. Порталы сцены стали хлопающими дверями лифтов, а в глубине сцены по горизонтали ездила кабина лифта, набитая людьми. Мы ищем фактуру, пространство, детали до тех пор, пока не почувствуем, что, наконец, нашли решение, при котором можно «выбрать» все мизансцены, нужные для спектакля. Как при удачной комбинации в шахматной игре, когда можно сделать много ходов и выиграть партию. То есть макет должен обладать большими потенциальными возможностями развития сценической жизни, ежеминутного развития. Мы выходим к актерам с окончательно решенным макетом, и они понимают, в какой пластике и манере им работать. Но, конечно, это еще вовсе не означает, что придумывается все сразу до конца, на весь спектакль. Насиловать воображение нельзя. Перед началом работы над спектаклем карта с еще белыми пятнами, как в давние времена. Постепенно их становится все меньше и меньше. Они исчезают, когда подключается актерская интуиция. Чисто подсознательно возникают вещи, которые заранее никогда не придумаешь. Актер работает на сцене с реальными предметами, активно включая то, что задумал художник в процессе действия. Боровский активен и на этом этапе работы. Буквально с первых репетиций мы начинаем устанавливать свет. Сразу выволакивается на сцену все, из чего будем лепить спектакль. Свет, звук ищутся на самой сцене. И без художника здесь пришлось бы туго. Удачи или, говоря военным языком, прорывы возникают на стыке жанров. Как на фронте, бывает легче прорываться на стыке соединений. Классифицировать, делить на периоды работу художника, работу театра? Это дело критиков, теоретиков. Страшно стать эпигоном самого себя. Но ведь когда находят неизвестную картину, скажем, Рембрандта, знатоки сразу определяют его манеру. В любой своей вещи Рембрандт остается Рембрандтом. И при этом он постоянно меняется и себя не повторяет. Догматизм – смертельный яд искусства. Каждый раз встречаясь с неповторимым, уникальным произведением искусства, мы пытаемся разглядеть этот новый кроссворд. Пластика спектакля, его пространственное решение, единство стиля – все это вещи чрезвычайно важные. И каждый раз мы решаем их заново. ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ ЛЮБИМОВ. (Из книги «Художник, сцена, экран», сборник статей. М,1975)
Репетиции
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 57; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.22.242.141 (0.027 с.) |