
Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Лексические единицы, пословицы и поговорки, отражающие концепт «интеллект» в немецком языкеСтр 1 из 7Следующая ⇒
Лексические единицы, пословицы и поговорки, отражающие концепт «интеллект» в немецком языке
Выпускная квалификационная работа Студентки группы 603 ОЗО Яфизовой Д.Ф. Научный руководитель к.ф.н. Искандерова И.З.
Казань- 2008
Оглавление Введение.. 3 Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ... 8 § 1.Понятие «интеллект человека». 8 § 2. Общелингвистическое понимание и теории концепта. 9 § 3. Понятие "лексико- семантическое поле". 18 3.1. Полевой принцип описания явлений языка. 18 3.2. Теории поля в лингвистике. 20 3.3. Лексико-семантическое поле. 26 3.4. Типы связей в лексических полевых структурах. 28 3.5. Лексическое значение и его структура. 30 Глава II. Характеристика лексических единиц, отражающих концепт " интеллект" в немецком языке.. 33 § 1 Существительные, выражающее концепт "интеллект". 33 § 2 Прилагательные, выражающее концепт "интеллект". 39 § 3 Глаголы, выражающее концепт "интеллект". 41 Глава III. Пословица и поговорка в концепте «интеллект» в немецком языке.. 46 §1. Общий обзор пословицы и поговорки в немецком языке. 46 1.1. История развития пословицы.. 46 1.2.Социальные пословицы.. 47 1.3.Исторические пословицы.. 48 § 2. Анализ пословиц и поговорок, отражающих концепт «интеллект» в немецком языке 53 Заключение.. 69 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ... 71
Введение Феномен человеческого интеллекта и его отражение в лексике и фразеологии языка всегда вызывал большой интерес у исследователей, о чем говорит богатая традиция изучения языковых единиц интеллектуальной сферы. Семантические, прагматические, мотивационные и прочие аспекты анализа лексики поля по теме «Интеллект человека затрагиваются в работах Ю.Д.Апресяна, В.Г.Гака, Т.И. Вендиной, В.И. Карасика и др. Несмотря на интерес современных лингвистов к данному феномену, исследование концептуализации интеллектуальной сферы человека нельзя назвать завершенным. В современном языкознании происходит становление новой парадигмы. Ранее языкознание было ориентировано на сам язык, его структуру. Сейчас язык рассматривается как средство общения, коммуникации, хранения культуры. Тем самым, язык непосредственно связывается с носителем языка, культуры, с человеком, которому и присуща способность думать и которым ассоциируется понятие концепта «интеллект».Таким образом, актуальность данного квалификационного исследования определяется значимостью самого понятия «концепт» и недостаточной изученностью данной проблемы на материале немецкой языковой картины мира, связанным с представлениями об интеллектуальных способностях человека, с позиции лингвокульторологии и когнитологии.
Слово ‘концепт’ стало активно употребляться в российской лингвистической литературе с начала 90-х годов. В современной науке данное понятие недостаточно изучено и является объектом активного изучения. К теме концепта обращались многие лингвисты, такие как Стернин А.И., Болдырев Н.Н., Кубрякова Е.С., Арутюнова Н.Д., Лихачев Д.С. Они рассматривали его с культурологической и когнитологической точки зрения. По определению Н.Д. Арутюновой концепт – это образ, понятие, которое соединяет сходные по смыслу понятия, соединяет и обобщает их в едином слове. Из признания концепта планом содержания языкового знака следует, что он включает в себя, помимо предметной отнесенности, всю коммуникативно-значимую информацию. Пересмотр традиционного логического содержания концепта и его психологизация объясняются, в том числе, и потребностями когнитологии, в частности, когнитивной лингвистики, рассматривающий концепт с познавательной точки зрения, сосредотачивающей внимание на соотнесении лингвистических данных с психологическими. Оперирование категорией понятия в классическом представлении оказалось для когнитивистики явно недостаточным. Однако основным признаком, отделяющим лингвистическое, т.е. языковое понимание концепта от логического, является его закрепленность за определенным способом языковой реализации. Концепт имеет парадигматические, синтагматические и словообразовательные связи. В семантический состав концепта входит вся прагматическая информация языкового знака, связанная с его экспрессивной функцией, что вполне согласуется с ‘переживаемостъю’ и ‘интенсивностью’ духовных ценностей. Еще одним, факультативным, но, тем не менее, высоковероятным компонентом семантики языкового концепта является ‘этимологическая’, она же ‘культурная’, она же ‘когнитивная память слова’ – смысловые характеристики языкового знака, связанные с его исконным предназначением, национальным менталитетом и системой духовных ценностей носителей языка.
Таким образом, концепт является широким понятием и исследуется с разных точек зрения – лингвистических, познавательных, культурных. Актуальность данного исследования определяется недостаточной разработанностью в языкознании механизма репрезентации концептов на уровне лексики.Проблема недостаточно изучена и изучается на конкретном материале словарей.В современной лингвистике остаются малоисследованными проблемы описания функционирования как ядерных, так и периферийных лексических единиц. Целью данного квалификационного исследования является всестороннее описание лексических единиц, входящих в концепт «интеллект» в немецком языке, и поговорок, отражающих данный концепт. рассмотреть лексико-семантическое поле «интеллект» в современном немецком языке, выявить составляющие поля «интеллект» и описать связи элементов поля между собой. определить какие поговорки отражают этот концепт и какой образ при этом складывается у немецкого народа Цель исследования предполагает решение следующих задач: 1. изучение теоретических вопросов по проблемам, рассмотренным в лингвистической литературе по когнитивистике и лингвокультурологии; 2. Выявить корпус лексических единиц с семантикой «интеллект» в немецком языке; 3.составить список немецких слов, выражающих интеллектуальную оценку, называющих мыслительные способности и интеллектуальные действия; 4. Описать концепт «интеллект» с применением теории лексико-семантического поля, опираясь на его признаки и свойства как поля; 5. Рассмотреть концептосферу «интеллект» с позиции национальной культуры, определить функционирование данного концепта в лингвокультурном аспекте, его значимости в немецкой культуре. Объектом данного исследования является концепт «интеллект человека» в современном немецком языке, границы которого определены достаточно широко. Он объединяет нейтральную с точки зрения оценки лексику, соотносимую с рпедставлениями об указанном фрагменте действительности. В состав концепта были включены как положительные характеристики человека по интеллекту, так и обозначения укмственных способностей, а также интеллектуальных действий. В рамках концепта представлены различные по структуре единицы – целшьнооформленные лексемы и пословицы и поговорки. Предмет исследования – компоненты, составляющие концепт «интеллект» и их организация. Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней сделана попытка анализа структуру концепта с позиции когнитивной и лингвокультурной лингвистики. Идеи и выводы работы могут иметь ценность для изучения этнокультурного своеобразия лексики немецкого языка. Практическая ценность работы определяется тем, что ее результаты могут найти применение в курсах языкознания, стилистики, лексикологии, в спецкурсах по когнитивной лингвистике и лингвокультурологии, а также могут способствовать процессу межкультурной коммуникации с носителями немецкого языка.
В работе использовался материал из общеязыкового фонда. Для этой цели изучались словари – Большой толковый словарь немецкого языка, толковый словарь под редакцией Дудена, словарь русских и немецких пословиц и поговорок Графа А.Е., Касландзия В.А. Синонимия в немецкой фразеологии. Методы исследования определялись в соответствии с поставленными целью и задачами. Материал исследования был отобран методом сплошной выборки из различных лексикографических источников: Большой толковый словарь немецкого языка, толковый словарь под редакцией Дудена, словарь русских и немецких пословиц и поговорок Графа А.Е., Касландзия В.А. Синонимия в немецкой фразеологии. В данной работе использовались также статистический, описательный, исследовательский, структурно-словообразовательный методы. Выпускная квалификационнаяработа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Во введении дается общая характеристика работы, определяются цели и задачи исследования, приводится описание объекта, предмета и материала работы, определяется актуальность, теоретическая и практическая значимость к работы, излагается в виде структуры. В первой главе предлагаются современными лингвистами различные определения термина "концепт". В первой главе также рассматривается подробнее теория лексико-семантического поля. Во второй главе становится возможным на основе выделения лексико-семантических полей концепта «интеллект»в языке лексическая репрезентация интеллектапо различным признакам и различными лексическими единицами на уровне когнитологической лингвистики и лингвокультурологии. Втретьейглаведается общая характеристика пословицы и поговорки в немецком языке и анализируются пословицы и поговорки, отражающие концепт«интеллект» в немецком языке. В заключении приводятся выводы по антропоцентичному концепту «интеллект» и дальнейшие возможные пути его исследования.
Теории поля в лингвистике. В отечественной и зарубежной научной литературе существует множество теорий поля. Исследователи Потебня, Покровский, Р.Мейер, Шперберг, Г.Ипсен выделили некоторые закономерности семантических связей между единицами языка, а также типы семантических полей. Р.Мейер выделяет три типа семантических полей: 1)естественные (названия деревьев, животных, частей тела, чувственных восприятий и пр.)
2) искусственные (названия воинских чинов, составные части механизмов и пр.) 3) полуискусственные (терминология охотников или рыбаков, этические понятия и пр.) Семантический класс он определяет как “упорядоченность определенного числа выражений с той или иной точки зрения, т.е. с точки зрения какого-либо одного семантического признака, который автор называет дифференцирующим фактором. По мнению Р.Мейера, задача семасиологии - “установить принадлежность каждого слова к той или иной системе и выявить системообразующий, дифференцирующий фактор этой системы” [5]. Дальнейшее исследование лексики с точки зрения семантических полей связывается с именем Й.Трира, использовавшего термин “семантическое поле”, впервые появившийся в работах Г. Ипсена. В его определении семантическое поле - совокупность слов, обладающих общим значением. Теория Й.Трира тесно связана с учением В. Гумбольдта о внутренней форме языка и положениями Ф. де Соссюра о языковых значимостях. Трир исходит из понимания синхронного состояния языка как замкнутой стабильной системы, определяющей сущность всех ее составных частей. По мнению Й.Трира, “слова того или иного языка не являются обособленными носителями смысла, каждое из них, напротив, имеет смысл только потому, что его имеют также другие, смежные с ним слова” [5]. Й. Трир разделил понятия “лексическое” и “понятийное” поле и ввел эти термины в обиход. Согласно теории Й.Трира, поле состоит из элементарных единиц – понятия и слова. При этом составные компоненты словесного поля полностью покрывают сферу соответствующего понятийного поля. Й.Трир предполагает полный параллелизм между понятийными и словесными полями. Принято считать, что признание абсолютного параллелизма между словесными и лексическими полями обусловило главную ошибку Й.Трира. В данном случае имеется в виду положение, согласно которому внутренняя форма языка влияет, а точнее, обусловливает языковую картину носителей. Теория Й.Трира критиковалась по нескольким параметрам: за логический, а не языковый характер выделяемых им полей; за идеалистическое понимание им соотношения языка, мышления и реальной действительности; за то, что Й.Трир считал поле закрытой группой слов; за то, что Й.Трир фактически игнорировал полисемию и конкретные связи слов; за то, что он допускал полный параллелизм между словесными и понятийными полями; за то, что он отвергал значение слова как самостоятельную единицу (Й.Трир считал, что значение слова определяется его окружением); за то, что он изучал только имена (главным образом, существительные и прилагательные), оставляя без внимания глаголы и устойчивые сочетания слов [16]. Но несмотря на такую жесткую критику, труды Й.Трира стали стимулом для дальнейших исследований полевой структуры. Таким образом, наметилось два пути в исследовании и разработке теории семантических полей. Одни ученые (Л.Вейсберг, К.Ройнинг и др.) изучали парадигматические отношения между лексическими единицами языка, т.е. парадигматические поля. Другие (В.Порциг) занимались изучением синтагматических отношений и полей. Также изучались комплексные поля – это классы слов, связанных и парадигматическими, и синтагматическими отношениями.
Парадигматические поля К парадигматическим полям относятся самые разнообразные классы лексических единиц, тождественных по тем или иным смысловым признакам (семам); лексико-семантические группы слов (ЛСГ), синонимы, антонимы, совокупности связанных друг с другом значений полисемантического слова (семантемы), словообразовательные парадигмы, части речи и их грамматические категории. Лексико-семантическая группа Как ЛСГ трактуют языковые поля (хотя не все их так называют) Л.Вейсгербер, Г.Ипсен, К.Ройнинг, Э.Оскар, О.Духачек, К.Хейзе, А.А.Уфимцева, В.И.Кодухов и многие другие. Так, например, К.Ройнинг, исследуя современные немецкий и английский языки, признает существование пересекающихся групп. Он анализирует наряду с именами другие части речи, в том числе предлоги, союзы и грамматические средства выражения радости. В принципе, подход К.Ройнинга (который изучал группу слов со значением радости) радости мало чем отличается от подхода Й.Трира (изучал группу слов со значением разума), так как оба подхода имеют в определенной степени экстралингвистическую природу. У Й.Трира он имеет логическую, а у К.Ройнинга – психологическую окраску. К.Ройнинг считает, что слова с точки зрения семантики входят в разные группы, и их семантика зависит от контекста, в то время как у Й.Трира слово и его характеристика зависят от места в системе или от места в поле. Но оба они полагают, что характеристикой поля является наличие общих значений входящих в него лексем [16]. Наиболее глубоко теория ЛСГ разработана в исследованиях Л.Вейсгербера, Ф.П.Филина и С.Д.Канцельсона. Концепция словесных полей Л. Вейсгербера очень близка к концепции Й.Трира. Л.Вейсгербер также считает, что значение слова – это не самостоятельная единица поля, а структурный компонент. “Словесное поле живет как целое, - указывает он, - поэтому, чтобы понять значение отдельного его компонента, надо представить все поле и найти в его структуре место этого компонента” [16]. Каждый народ имеет свои принципы членения внешнего мира, свой взгляд на окружающую действительность, поэтому семантические системы разных языков не совпадают. Поэтому необходимо искать принципы деления словарного состава на поля в самом языке [5]. Исследователь Ф.П.Филин при членении языковой системы использует понятие “ лексико-семантические группы ”. Под ЛСГ он понимает “лексические объединения с однородными, сопоставляемыми значениями”, представляющие собой “специфическое явление языка, обусловленное ходом его исторического развития” [5]. Разновидностями ЛСГ, как он полагает, являются синонимические ряды, антонимы и даже лексические группировки с родо-видовыми отношениями. От ЛСГ Ф.П.Филин ограничивает словопроизводные (“гнездовые”) объединения слов, грамматические классы, комплексы значений многозначных слов и тематические группы (например, названия частей человеческого тела, термины скотоводства и под.). Данные тематические группы обычно перекрещиваются и даже иногда полностью совпадают с ЛСГ. Тематические группы (ряды) Отграничение тематических групп от других лексических группировок связано с определенными трудностями. Однако, исследователями XX века были обозначены критерии выделения тематических групп и их отличительные черты: - внеязыковая обусловленность отношений между ее элементами. В отличие, например, от ЛСП, которое является упорядоченным множеством словесных знаков, тематическая группа является совокупностью материальных или идеальных денотатов, обозначаемых словесными знаками - это разнотипность отношений между ее членами или их полное отсутствие. Сходные или тождественные, на первый взгляд группы могут образовывать различные лексические группировки. Если необходимо рассмотреть структурно-семантические отношения между терминами родства в одном языке или разных языках, мы получаем множество словесных знаков: отец, мать, брат, сестра, сын, дочь, и т.д., образующих поле. Названием (именем) тематической группы является, как правило, слова (а не искусственное образование) – “транспорт” и т.п. Из этого следует, что понятие “тематическая группа” тесно соприкасается с понятием “семантическое поле” [12]. Синтагматические и комлексные поля. Наряду с интерпретацией поля как парадигматического явления, появляется все больше работ, в которых самые различные синтаксические комплексы трактуются как поля и в которых делается попытка совместить анализ парадигматических и синтагматических полей. Термин “синтагматическое поле” (или синтаксическое поле), введен Порцигом В. Под термином “синтагматическое поле” понимались словосочетания и синтаксические комплексы, в которых явно проступала возможность семантической совместимости компонентов. Синтагматические поля отражают группировки двух видов: 1) слова, объединённые в синтагму только на основе общности их синтагматических сем, т.е. семантической сочетаемости. К таким, например, относятся группы типа “суъект+предикат”, “субъект+предикат+объект”, “субъект+предикат+атрибут”; 2) слова, объединённые в синтагму на основе общности их нормативных валентных свойств (лексической и грамматической сочетаемости). К таким относятся группы типа “существительное+прилагательное”, “глагол+наречие”[5]. Русский лингвист Васильев Л.М. выделяет еще один тип полей – комплексные. Он говорит о том, что при сложении парадигматических и синтагматических смысловых полей образуются комплексные поля. Такими полями являются, например, словообразовательные ряды, включающие слова разных частей речи вместе с их парадигматическими коррелятами (например, Учитель /преподаватель…/ учит (наставляет…/ученика/студента…/). Так, например, поле «женщина» в английском языке относится к комлексным полям, т.к. в его состав входят самые разнообразные классы лексических единиц, тождественные по смысловому признаку и, объединённые синтаксическим значением. Ассоциативные поля Большое распространение в языкознании получил термин “ассоциативное поле”, введённый Ш. Балли. Этот термин, благодаря новым исследованиям в области психологии, иногда употребляется как синоним термина “семантическое поле”. Наибольшее внимание этому вопросу стали уделять в начале ХХ века. Этим первоначально занимались медики и психологи, особенно в США и Германии. Одним из наиболее влиятельных оказался эксперимент Г.Кента и А.Розанова (1910), проведенный на 1000 информантов с реальной психикой. С этого времени список слов – стимуляторов, составленный Г.Кентом и А.Розановым, кладется в основу списков слов – стимулов других исследователей, которые хотят не только изучать природу психических ассоциаций, но и рассматривать лексические ассоциации как показатель лингвистического развития и формирования понятий у испытуемых. Такой подход позволяет обнаружить зависимость лексических ассоциаций от различных факторов, таких, как возрастной, половой, географический и т.д. Иногда вместо термина “ассоциативное поле” употребляется термин “семантическое поле”. Особенность семантических полей такого рода состоит в том, что при их установлении сознательно используются слово-стимул и его ассоциаты, а установление объема поля происходит в результате эксперимента с испытуемыми, следовательно, опирается на анализ не текста, а психики людей, участвующих в эксперименте. Таким образом, в зависимости от признака, положенного в основу классификации, ученые-лингвисты выделяют различные типы полей: лексико-семантические поля, лексико-семантические группы, тематические ряды, синтагматические, комплексные и ассоциативные поля и др. На данный момент нет единой типологии группировок и общепризнанных критериев их выделения. Среди всех выделенных полей в лингвистике нас буде интересовать прежде всего определение понятия «лексико-семантическое поле», которое и рассмотрим подробнее. Лексико-семантическое поле Лексико-семантическое поле – это термин, применяемый в лингвистике чаще всего для обозначения совокупности языковых единиц, объединенных каким-то общим (интегральным) лексико-семантическим признаком; иными словами – имеющих некоторый общий нетривиальный компонент значения. Первоначально в роли таких лексических единиц рассматривали единицы лексического уровня – слова; позже в лингвистических трудах появились описания семантических полей, включающих также словосочетания и предложения [23]. Лингвист Диброва Е.И. дает следующее определение ЛСП: Лексико-семантическое поле – это иерархическая организация слов, объединенная одним родовым значением и представляющая в языке определённую семантическую сферу. Ономасеологическим свойством семантического поля является то, что в его основе находится родовая сема, или гиперсема, обозначающая класс объектов. Семасиологическая характеристика поля заключается в том, что члены поля соотносятся друг с другом по интегрально-дифференциальным признакам в своих значениях. Это позволяет их объединять и различать в пределах одного поля. Собственно семантическая структура поля состоит из следующих частей:1) ядро поля представлено родовой семой (гиперсемой). Гиперсема поля - семантический компонент высшего порядка, организующий вокруг себя семантическое развёртывание поля; 2) центр поля состоит из единиц, имеющих интегральное, общее с ядром и рядоположительными единицами дифференциологическое значение; 3) периферия поля включает единицы, наиболее удалённые в своём значении от ядра, общее родовое понятие здесь оттеснено в разряд потенциальной или вероятностной семантики. Периферийные единицы могут иметь контекстуальное значение, если поле строится по определённому тексту произведения. Обычно периферийные единицы поля могут вступать в контакт с другими семантическими полями, образуя лексико-семантическую непрерывность языковой системы. Наиболее полно свойства ЛСП выделила И.И.Чумак: 1. Семантическое поле образуется множеством значений, которые имеют хотя бы один общий компонент (общий семантический признак). Этот компонент обычно выражается архилексемой (гиперлексемой), то есть лексемой с наиболее обобщённым значением; 2. В ЛСП выделяются микрополя - семантические объединения, члены которых связаны интегральным признаком, выражаемым обычно доминантой микрополя (ядерной лексемой). Внешнюю структуру микрополя составляет ядро и несколько областей, одни из которых могут располагаться в непосредственной близости к ядру (ближняя периферия), а другие на периферии микрополя (дальняя периферия); 3. Внутренняя структура поля понимается как набор корреляций, связывающих семантические единицы; 4. Для поля характерна взаимоопределяемость элементов, выступающая иногда в виде взаимозаменяемости этих элементов; 5. ЛСП не изолированы друг от друга. Каждое слово языка входит в определённое ЛСП, причём, чаще всего, вследствие своей многозначности, не только в одно; 6. Одно семантическое поле может включаться в другое поле более высокого уровня [15].Таким образом, лексико-семантическое поле представляет собой определенную группу слов (словосочетаний), объединенную одним родовым значением (ядро поля). ЛСП содержит в себе единицы, по своим значениям находящиеся на разном «расстоянии» от ядра поля (ближняя и дальняя периферия). Одно ЛСП может входить в другое (например, семантическое поле «Intellekt» входит в поле более высокого порядка - «menschliche Denkmoglichkeit»); в свою очередь элемент одного ЛСП может входить в другое поле, в зависимости от признака, берущегося за основу образования поля (так, например, слово «der Verstand» по признаку мышления входит в ЛСП «Intellekt», а по признаку способности в ЛСП «die Begabung»). История развития пословицы О времени возникновения или по меньшей мере о времени распространения немецких пословиц мы знаем достаточно много. Значительная часть немецких пословиц уже в средние века приобрела современную форму, а для некоторых из них ее можно проследить, начиная уже с X века. Труды Ф.Зейлера (1922) и особенно З.Зингера (1944— 1947) принесли новые открытия в исследовании латинских и средневековых истоков немецких пословиц. К древнейшим немецким пословицам среди прочих принадлежат: "Eigener Herd ist Goldes wert", "Jeder strecke sich nach seiner Decke", "Nicht alle Vogel sind Falken". Расцвет немецкой пословицы давно прошел; начиная с XIX в., лишь немного новых пословиц вошло в обращение, например "Die Eisenbahn und der Tod warten auf niemand". Современные поговорки, однако, довольно многочисленны: "Es geht wie mit Dampf'," Ein Ventil offhen", "Auf das tote Gleis schieben", "Den Anschlufi versaumen", "Er hat eine lange Leitung" и т.п. Развитие и распространение русской пословицы происходило иным путем, нежели немецкой. В то время как русская пословица, произрастая из крестьянской почвы, редко когда утрачивала народно-разговорный характер, и раньше — примерно до середины XVIII века — не приобретала особого веса в жизни крестьянина и мелкого горожанина, немецкая гномика со средних веков сохраняла ученую и нарочито назидательную окраску. Конечно, не одни только клирики вещали народу с кафедр, были и ваганты (артисты и странствующие студенты), которые охотно импровизировали латинские стихи на потеху слушателям. В это же время возникло высказывание "Schreiber und Studenten sind in der Welt Regenten". Иные их строки могли впоследствии утвердиться в качестве пословиц. В течение продолжительного времени на немецкую пословицу оказывали влияние церковные и монастырские школы. Так, еще в школьной практике эпохи Гуманизма будут истолковываться и основательно заучиваться многие мудрые изречения. К числу наиболее известных и бесконечное число раз цитируемых пословиц принадлежит следующая: "Morgenstunde hat Gold im Munde" = "Aurora musis arnica". Позднейшая, впервые сложенная в XIX в. пословица "Повторение — мать учения" = "Repetitio est mater studiorum" позволяет заключить и о гимназическом вкладе в пословицу. Подобные, происходящие от гуманистического корня, русские пословицы, которые еще в XVIII в. могли быть занесены на север из Киевской латинской академии, составляют лишь каплю в море исконных .. народных пословиц русских крестьян. Наделенный даром слова крестьянин строго различает правильную речь и хорошую пословицу: "Одна речь не пословица".[18;19] Социальные пословицы Пословицы обоих народов поощряют благотворительность ("Almosengeben armet nicht="Рука дающего не оскудеет" или "Дорога милостыня в скудости") и не видят позора в бедности ближнего ("Armut schandet nicht" ="Бедность не порок"). Равно как и вину или наказание, свалившиеся на сотоварища, в пословицах рассматривают как невезение и выражают глубокое сочувствие попавшему в беду ("Бедность — святое дело").
Оба народа могут гордиться своим пословичным богатством. Нужно, однако, признать, что на протяжении веков отношение немцев к своей пословице изменялось. На заре нового времени и еще в XVI и XVII вв. старая добрая пословица была у всех на устах. Сегодня ее уличная мудрость звучит гораздо реже, чем когда-либо. По-другому обстоит дело с русской пословицей. Русский человек сохраняет непосредственную связь с народной мудростью и оживляет свою повседневную речь пословицами чаше, чем современный немец. А как могло быть иначе? Крестьяне, исконные носители народной традиции, до сих пор играют в жизни своей страны, России, особую роль по сравнению с Западной Европой. Так, в России XIX столетия, которое было воистину весьма продуктивным по части фольклора, доля крестьянского населения составляла 85 — 88 %. Но и сегодня крестьяне в этой стране имеют возможность обогащать литературу пословичной мудростью, создавая новую, городскую пословицу, ибо, как говорит русское присловье, "Из-за пословицы мужик в город пешком пошел".[18;20] Исторические пословицы Отражение исторических событий в русской пословице, насколько мы можем судить, ощутимо слабее, чем в поговорке. Так, исторические поговорки больше числом и встречаются они в повседневной речи чаще, нежели привязанная к историческим событиям пословица. Можно привести такие примеры, как "Погиб, как швед под Полтавой" (1709); "Голоден, как француз" (1812); "Вот тебе бабушка, и Юрьев день!" (1597) или же "Ни бельмеса не смыслит" (от татарского "биль мес" — не понимаю) против исторической пословицы, гораздо реже встречающейся в регулярном употреблении. Примеры исторических пословиц: "Дай срок, не бей с ног" (просьба налогоплательщика в старой Москве), "Где пройдет один солдат, там пройдет вся армия" (высказывание генерала Суворова, который в 1799 г. провел свои войска из Ломбардии через Альпы в Швейцарию), "От денежной свечи Москва сгорела"(напоминание о пожарах в Москве; вИ43 и 1537 гг.). Поговорки вроде "Он строит потемкинские деревни" стали известны в Европе с того времени, когда были инсценированы фальшивые постройки Потемкина (1787г. — год, когда Екатерина II соизволила лицезреть новоприобретенные земли Малороссии). Древнейшие исторические поговорки засвидетельствованы в русских летописях, например в хронике Нестора XII в. ("Погибоша аки обри"). С культурно-исторической точки зрения интересны такие старые пословицы, как "Будет и на нашей улице праздник" (кулачные бои "улица на улицу"), "Не убить бобра — не видать добра" (распространение бобрового промысла в Древней Руси). Такие древнейшие пословицы дают нам понятие о древних нравах и обычаях, народных правовых представлениях. Каждый народ выдумывал пословицы, в которых древние юридические установления находили свою конкретную форму, например, о наследовании: "Мать при сыне не наследница". Возможно, что эти пословицы еще старше, чем письменно зафиксированные законодательные постановления. Как, например, немецкая пословица "Wer zuerst (zur Muhle) kommt, mahlt zuerst" была известна с XII в.; так и древний сборник законов "Русская правда" (XI век) содержал по крайней мере зачатки сходных формулировок. Хронология и этиология русской пословицы, конечно, еще слабо изучены, и в них могут открыться новые привязки к событиям национальной истории. К часто употребляемым пословицам древнейшего происхождения принадлежат, в числе других, следующие: "Ожогшися на молоце, велено на воду дуть"; "Утопали, топор давали, выплывши — ни топорища!"; "На тебе, убоже (= нищий), что нам не гоже"; "Варвара не тетка, — правда сестра" (имеется в виду храмовая икона св.Варвары в Москве). Важным источником старейших русских пословиц является "Домострой" — справочник правил поведения в быту и различных хозяйственных и нравственных установлений XVI в. Также и переписка боярина Курбского с Иваном IV второй половины XVI в. содержит некоторые старинные пословицы. Не все из собранных Далем и Снегиревым более ста лет назад пословиц — старые. Некоторые могут быть отнесены к числу новинок XIX столетия, как, например: "Кто не вистует? Вся Москва вистует".
Поговорка "Ходит франтом, сапоги рантом" выдает приход новой моды на сапоги. Точно так же прозвища для немцев могли появиться только в то время, когда немецкий ремесленник и торговец стали частью повседневной жизни русских: "Немец — колбасник" или "Немец — цирлих, манирлих". Отступление Наполеона из России наряду с поговорками принесло и пословицы, например: "Пуганый француз и от козы бежит". Понятие "кулак" (богатый крестьянин) могло возникнуть также лишь в прошлом столетии. Немецкий язык знает больше исторических поговорок, чем русский, что и не удивительно, поскольку они создавались на материале целого тысячелетия немецкой истории ("Fluchen wie ein Landsknecht", "Es geht da zu wie im Bauemkrieg", "AIs wenn der Schwed' dagewessen waY', и т.д.)- Число же исторических пословиц, напротив, как и в русском языке, довольно ограничено. Если же под историческими пословицами понимать относящиеся не только к политической истории, то их число несколько возрастет. Например: "Je na'her Rom, je schlimmer Christ" — намек на церковное уложение 1500 г. Письменно закрепленные, но чуждые народному употреблению так называемые исторические пословицы не должны входить в это число
Не с лучшей стороны представляет пословица богачей. В ней отчетливо выражен гнев угнетенных против поработителей — и здесь немецкое слово звучит резче, нежели русское. Нужно, однако, пояснить, что во времена возникновения пословиц противостояние господина и слуги, землевладельца и крестьянина в немецких землях должно было находить более резкое выражение, нежели недовольство русских крестьян во времена первых царей. Терпеливый, тонко чувствующий, богобоязненный русский крестьянин, оказавшись в жесточайшей нужде, выступил впервые против боярской власти лишь в 1606 г. Покорность русского крестьянина своей судьбе обозначена, впрочем, в известной пословице "Царь далеко, а Бог высоко". Богатого же крестьянин боится пуще медведя: "Богатый силен, что медведь". Когда русский крестьянин говорил: "Дворянская служба — красная нужда", то средневековый немец ему вторил: "Wer sich im Herrendienst zu Tode arbeitet, den holt der Teufel" или "Je groBer Herr, je wild'rer Ваг". Право дворян на привилегии ставится под сомнение в давней пословице "AIs Adam grub und Eva spann, wo warr denn da der Edelmann?" Русская пословица в большей степени, чем немецкая, склонна давать совет покоряться власти и терпеть: "Лучше самому терпеть, чем других обижать". Ни одно сословие не обошла пословица без критики, не оставила она в покое и самого крестьянина. Только в немецкой пословице пренебрежение к крестьянину выражено гораздо обиднее добродушной насмешки русских. Очень старая и, к счастью, устаревшая пословица "Der Bauer und sein Stier sind zwei grobe Tier", известная всей Европе, не находит ни одного русского соответствия. Сходное сравнение мы находим в латинской пословице, относящейся к позднему средневековью: "Rusticus est quasi Rind, nisi quod sibi cornua destnt". Честный труд ремесленника ценится обоими народами, как главная основа городской жизни, хотя восточному соседу и не был известен цеховой устав: "Handwerk hat goldenen Boden" = "Ремесло — золот
|
||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; просмотров: 460; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.222.9.22 (0.075 с.) |
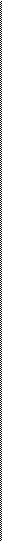 пословицы). Наряду с лежебокой слово берет и шалопай: "Lustig gelebt und selig gestorben, das heisst dem Teufel die Rechnung verdorben", a нечестный продавец утешает себя максимой "Не обманешь, не продашь".
пословицы). Наряду с лежебокой слово берет и шалопай: "Lustig gelebt und selig gestorben, das heisst dem Teufel die Rechnung verdorben", a нечестный продавец утешает себя максимой "Не обманешь, не продашь".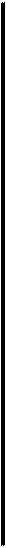 Игра в вист пришла в Россию лишь в XIX в. и была известна впоследствии под названием "винт".
Игра в вист пришла в Россию лишь в XIX в. и была известна впоследствии под названием "винт". .
.



