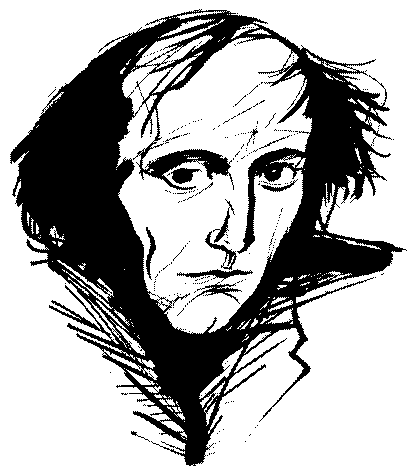Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Основные даты жизни и творчества. Художественный мир прозы Довлатова
Художественный мир прозы Довлатова
ПРОФЕССИЯ: РАССКАЗЧИК
Сергей Донатович Довлатов родился в самом начале Великой Отечественной войны в эвакуации в Уфе, большую часть жизни прожил в Ленинграде, умер в эмиграции в Нью‑Йорке и стал одним из любимых писателей конца XX века всюду, где читают по‑русски. В его записных книжках есть классификация разных типов авторов, напоминающая ту, которую мы использовали в первой книге (поэт – писатель – литератор). «Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик – на уровне сердца, ума и души. Писатель – на космическом уровне. Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик – о том, как должны жить люди. Писатель – о том, ради чего живут люди» («Записные книжки»). В других случаях Довлатов сокращал эту триаду до двучлена, всегда сохраняя за собой скромное место рассказчика. «Не думайте, что я кокетничаю, но я не уверен, что считаю себя писателем, – объясняет он в интервью. – Я хотел бы считать себя рассказчиком. Это не одно и то же. Писатель занят серьезными проблемами – он пишет о том, во имя чего живут люди. А рассказчик пишет о том, КАК живут люди. Мне кажется, у Чехова всю жизнь была проблема, кто он: рассказчик или писатель?» Чехов занимает особое место в размышлениях Довлатова. В «Записных книжках, есть такое признание: «Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского. Юмор Гоголя. И так далее. Однако похожим хочется быть только на Чехова». Довлатов‑человек напоминал Чехова высоким ростом. Довлатов‑рассказчик походит на Чехова много больше. Во‑первых – краткостью (Чехов, как мы помним, считал ее сестрой таланта). Довлатов написал дюжину книг. Это – либо сборники рассказов («Зона», «Компромисс», «Наши»), либо короткие повести («Заповедник», «Филиал»). Единственный законченный Довлатовым роман остался в рукописи (Чехов тоже так и не написал романа, хотя одно время работал над ним). Все, что необходимо, рассказчик Довлатов умел сказать в малых эпических жанрах. «Я проглатывал его книги в среднем за три‑четыре часа непрерывного чтения…» – признавался И. Бродский («О Сереже Довлатове», 1992).
Во‑вторых, общей оказывается исходная точка чеховского и довлатовского художественных миров. Заглянем еще раз в довлатовские «Записные книжки». Там много фраз‑афоризмов, то непритязательно‑смешных, то задумчиво‑печальных: «Я болел три дня, и это прекрасно отразилось на моем здоровье»; «Гений – это бессмертный вариант простого человека». Там не меньше словесной игры, смешных фамилий, оговорок, переделанных цитат (с такими языковыми «молекулами» любят работать авторы‑«часовщики»): «Опечатки: „Джинсы с тоником“, „Кофе с молотком“; „Две грубиянки – Сцилла Ефимовна и Харибда Абрамовна“; „Балерина – Калория Федичева“; „Рожденный ползать летать… не хочет!“ Но больше всего там коротких историй о себе и других, об известных всем (исторических) и известных только автору родственниках, друзьях и знакомых. «Соседский мальчик ездил летом отдыхать на Украину. Вернулся домой. Мы его спросили: – Выучил украинский язык? – Выучил. – Скажи что‑нибудь по‑украински. – Например, мерси». «Я был на третьем курсе ЛГУ. Зашел по делу к Мануйлову. А он как раз принимает экзамены. Сидят первокурсники. На доске указана тема: „Образ лишнего человека у Пушкина“. Первокурсники строчат. Я беседую с Мануйловым. И вдруг он спрашивает: – Сколько необходимо времени, чтобы раскрыть эту тему? – Мне? – Вам. – Недели три. А что? – Так, – говорит Мануйлов, – интересно получается. Вам трех недель достаточно. Мне трех лет не хватило бы. А эти дураки за три часа все напишут». «Набоков добивался профессорского места в Гарварде. Все члены ученого совета были – за. Один Якобсон (известный филолог Р. О. Якобсон. – И. С.) был – против. Но он был председателем совета. Его слово было решающим. Наконец коллеги сказали: – Мы должны пригласить Набокова. Ведь он большой писатель. – Ну и что? – удивился Якобсон. – Слон тоже большое животное. Мы же не предлагаем ему возглавить кафедру зоологии!» Как назвать эти мини‑произведения? Это – анекдоты, причем не только в современном смысле слова (краткий устный рассказ с неожиданной концовкой), но и в понимании пушкинской эпохи. Когда автор «Евгения Онегина» замечает, что герой хранил в памяти «дней минувших анекдоты», он имеет в виду не просто смешные и краткие, но примечательные, характерные истории, отражающие какие‑то существенные черты известных людей и исторической эпохи.
Довлатов не просто собирает и пересказывает анекдоты в записных книжках. Многие его сюжеты (как и чеховские) имеют анекдотическую природу, вырастают из анекдота. После Пушкина, в писательскую эпоху, к анекдоту стали относиться высокомерно‑снисходительно, не считая его серьезным жанром. Лескова и Чехова некоторые критики презрительно называли писателями‑анекдотистами. Но один из современников Довлатова, писатель и литературовед А. Д. Синявский (придумавший себе футуристски‑провокационный псевдоним Абрам Терц), создал настоящий панегирик анекдоту, увидев в этом сверхкратком жанре романную широту и философскую глубину. «Если мы представим себе анекдоты в виде бесконечной цепочки, то она, эта цепочка, охватит чуть ли не все искомые или возможные положения человека на земле. Как таблица химических элементов Менделеева, оставляющая пустоты, незаполненные ячейки для новых валентностей, для новых анекдотов. Общий заголовок этой таблицы, составленный из юмористических притч, гласит: „человеческое бытие“, „человеческое существование“. И эта воображаемая таблица будет отличаться не только полнотой охвата, но философским спокойствием, мудрым юмором, снисходительной высшей точкой зрения на жизнь и на все на свете» (Абрам Терц «Анекдот в анекдоте», 1978). В своем размышлении об анекдоте Синявский дважды отсылает к еще одному важному для понимания прозы Довлатова понятию: юмор. В записных книжках Довлатова есть афоризм и о нем: «Юмор – инверсия жизни. Лучше так: юмор – инверсия здравого смысла. Улыбка разума». В довлатовской статье есть чуть более подробное объяснение: «Юмор… – не цель, а средство, и более того, – инструмент познания жизни: если ты исследуешь какое‑то явление, то найди – что в нем смешного, и явление раскроется тебе во всей полноте». Юмор в отличие от других видов комического прекрасно сочетается с печалью и даже трагизмом, снисходительностью к людям и философским отношением к несовершенству бытия. Немецкий философ А. Шопенгауэр специально подчеркивал скрывающуюся в юморе «глубочайшую серьезность». Гоголевский смех сквозь слезы в этом смысле – принцип юмористического отношения к миру. У Довлатова есть ее своеобразная вариация: «Существует понятие – „чувство юмора“. Однако есть и нечто противоположное чувству юмора. Ну, скажем – „чувство драмы“. Отсутствие чувства юмора – трагедия для писателя. Вернее, катастрофа. Но и отсутствие чувства драмы – такая же беда». Чувство драмы обычно связано в прозе Довлатова с находящимся в центре повествования рассказчиком. В разных книгах он носит различные имена: Алиханов («Зона»), Далматов («Филиал»). Но в «Компромиссе», «Наших», «Чемодане» его зовут так же, как и автора: Сергей Довлатов. Довлатова‑героя, как и других персонажей довлатовской прозы, носящих реальные имена, конечно, нельзя полностью отождествлять с его создателем. Особенностью писательской манеры является правдоподобная выдумка, замаскированная под реальность. Сергей Довлатов – один из литературных героев, образов рассказчика Довлатова.
«Дело в том, что жанр, в котором я, наряду с другими, выступаю, это такой псевдодокументализм. Когда все формальные признаки документальной прозы соблюдаются, то художественными средствами ты создаешь документ… И у меня в связи с этим было много курьезных ситуаций, когда люди меня поправляли. Читая мои сочинения, они говорили, все это было не так, например, ваш отец приехал не из Харбина, а из Владивостока. Или история моего знакомства с женой несколько раз воспроизведена в моих сочинениях, и каждый раз по‑разному. Была масса попыток объяснить мне, как все это на самом деле происходило. Во всяком случае, правды и документальной правды и точности в моих рассказах гораздо меньше, чем кажется. Я очень многое выдумал», – признавался писатель. Отказываясь от писательских претензий на учительство, претендуя всего лишь на анекдотическую историю современной жизни, рассказывая о том, как живут люди, Сергей Довлатов вовсе не отрицал огромного воздействия литературы на человека, но связывал его (и в этом он тоже похож на Чехова) не с проповедью, а с литературным качеством произведения, определяемым талантом. «Когда вы читаете замечательную книгу, слушаете прекрасную музыку, разглядываете талантливую живопись, вы вдруг отрываетесь на мгновение и беззвучно произносите такие слова: „Боже, как глупо, пошло и лживо я живу! Как я беспечен, жесток и некрасив! Сегодня же, сейчас же начну жить иначе – достойно, благородно и умно…“ Вот это чувство, религиозное в своей основе, и есть момент нравственного торжества литературы, оно, это чувство, – и есть плод ее морального воздействия на сознание читателя, причем воздействия чисто эстетическими средствами…» («Блеск и нищета русской литературы», 1982). Подведем итог. Вообразим творческую анкету Сергея Довлатова. Любимый жанр – рассказ или короткая повесть. Форма мышления – анекдот. Личные предпочтения, свойство таланта – юмор. Отношение к действительности – псевдодокументализм, выдумка, которая оказывается правдивее реальности. Задача – рассказать о том, как живут люди. Сверхзадача – вызвать глубокую эмоциональную реакцию, заставить читателя задуматься и – если возможно – хоть чуть‑чуть измениться. «Я пытаюсь вызвать у читателя ощущение нормы… Одним из таких серьезнейших ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением… Значит, абсурд и безумие становятся чем‑то совершенно естественным, а норма, то есть поведение нормальное, естественное, доброжелательное, спокойное, сдержанное, интеллигентное, – становится все более из ряда вон выходящим событием… Вызывать у читателя ощущение, что это нормально, – может быть, вот в этом заключается задача, которую я предварительно перед собой не ставил, но это и есть моя тема, тема, которую не я изобрел и не я один посвятил ей какие‑то силы и время. Если нужны красивые и, в общем, точные и верные слова, то это попытка гармонизации мира» («Писать об абсурде из любви к гармонии»).
«ЧЕМОДАН»: ВЕЩИЕ ВЕЩИ
Все эти сложные проблемы рассказчик Довлатов мог и умел поставить и раскрыть через внешне непритязательный анекдот. Структуру довлатовской книги можно представить таким образом: медленно вращается колесо «большого», центрального сюжета, а на нем беспрерывно и весело позвякивают бубенчики анекдотов. Присмотримся пристальнее к нескольким историям, из которых слагается «Чемодан» (1986), одна из лучших довлатовских книг, написанная в эмиграции в Америке, но посвященная, как и почти вся проза Довлатова, России. Чемодан «Чемодана», кажется, реален. «Вы уехали почти в 37 лет, с одним чемоданом, перевязанным бельевой веревкой…» – интересуется американский литературовед. «Да, чемодан был неказистый. Все так, и что же?» – соглашается и задает ответный вопрос Довлатов (Дж. Глэд «Беседы в изгнании», 1991). Но у чемодана, возможно, существуют литературные прототипы. «Всеми фибрами своего чемодана он стремился за границу», – замечено в записных книжках И. Ильфа, по жанру похожих на записные книжки Довлатова, которые мы цитировали. А у ленинградского писателя. В. Голявкина, которого Довлатов знал и ценил, есть коротенький рассказик «О чемодане». Одна старушка жалуется другой, что уехавший сынок оставил дома ненужный чемодан, и она никак его не может пристроить: под кроватью будет пылиться, на шкаф не помещается, шкаф на чемодан у людей ставить не принято. «Чемодан, он чемоданом останется – и ничего для него не придумаешь нового. Если бы, например, стол или шкаф, или к примеру, диван какой, так на диване сидеть еще можно. А чемодан не пригоден к этому. Горе мне с чемоданом!» В предисловии к довлатовской книге чемодан оказывается к этому пригоден. Наказанный сын отправляется в шкаф. «Сынок провел в шкафу минуты три. Потом я выпустил его и спрашиваю: – Тебе было страшно? Ты плакал? А он говорит: – Нет. Я сидел на чемодане». Но главная, новая выдумка в другом. Чемодан в довлатовской книге – хранитель «пропащей, бесценной, единственной жизни» (любимый писательский психологический оксюморон). Книга начинается эпиграфом из А. Блока: «…Но и такой, моя Россия, / ты всех краев дороже мне…» Вспомним этот блоковский текст:
Грешить бесстыдно, непробудно, Счет потерять ночам и дням, И, с головой от хмеля трудной, Пройти сторонкой в божий храм.
Три раза преклониться долу Семь – осенить себя крестом, Тайком к заплеванному полу Горячим прикоснуться лбом.
Кладя в тарелку грошик медный, Три, да еще семь раз подряд Поцеловать столетний, бедный И зацелованный оклад.
А воротясь домой, обмерить На тот же грош кого‑нибудь, И пса голодного от двери, Икнув; ногою отпихнуть.
И под лампадой у иконы Пить чай, отщелкивая счет, Потом переслюнить купоны, Пузатый отворив комод,
И на перины пуховые В тяжелом завалиться сне… Да, и такой, моя Россия, Ты всех краев дороже мне.
В первой редакции блоковское стихотворение называлось «Россия». Под ним стояла дата: «30.XII.1913–26.VIII.1914» (восемь месяцев на шесть четверостиший). Потом от даты осталось только второе число, заглавие исчезло, но текст был включен в третьем томе лирики в раздел «Родина». Блоковский образ России контрастен. Он строится на противопоставлении благочестия и греховности, душевной щедрости и скопидомства, доброты и равнодушия. Блоковское утвердительное да Довлатов заменяет сомневающимся но. Оно обращено не столько к блоковскому поэтическому сюжету, сколько к сюжетам собственной прозы. В предисловии, перебирая заглавия, Довлатов словно ищет конструкцию книги, уточняет ее смысл. «От Маркса к Бродскому» – заглавие идеологическое, история обязательных изучений и собственных увлечений. Однако, в нем скрывается ирония. Маркс, которого в советскую эпоху обязательно «проходили» в школе и институте, представлен не серьезными работами, а страницей газеты «Правда» за май восьмидесятого года (уже в этой детали проявляется довлатовский псевдодокументализм: газета не могла оказаться в чемодане, потому что автор с чемоданом уехал из СССР на два года раньше). И фотография литературного кумира Довлатова, Иосифа Бродского, оказывается в довольно странном соседстве с джазовым музыкантом Армстронгом и актрисой Лоллобриджидой в прозрачной одежде. Другое название – «Что я нажил» – словно колеблется между полюсами духовного и материального. Оно варьирует заголовки детских книжек Бориса Житкова «Что я видел» и «Что бывало». Окончательный вариант обращает повествование к быту, к немногим вещам, увезенным в эмиграцию. Каждый довлатовский рассказ привязан к вещи и нанизан на стержень биографии главного героя. Восемь вещей – восемь историй. «Вещественные знаки невещественных отношений», как говорил герой романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история», классической книги об утрате иллюзий. В 1927 году эмигрант первой волны М. А. Осоргин написал рассказ «Вещи человека», который вряд ли был известен Довлатову, но оказывается удивительно близок ему по настроению, по пониманию роли родного предмета. «Умер обыкновенный человек. Он умер. И множество вещей и вещиц потеряло всякое значение…» – так начинается осоргинский рассказ. И вот чья‑то белая рука с обручальным кольцом (вдовы? судьбы?) медленно перебирает кургузый остаток карандаша‑ветерана, пережившего несколько уборок, прокуренную трубку, давно остановившиеся карманные часы, старые письма, футляр очков, портсигар… Вещи были «маленьким храмом человеческого духа». Теперь «осколки храма стали мусором». Действительно, даже в простых предметах, нас окружающих, есть своя философия и даже мистика. Вещи долговечнее человека, они переживают его, оставаясь – для тех, кто поймет и увидит, – памятником прошедшему времени и ушедшей жизни. Вещи обладают своей атмосферой. Они плотно срастаются с какой‑нибудь ситуацией (у каждого – своей), вызывая обвал воспоминаний. Психологи различают понятия «значение» и «смысл». Значение – объективно, всеобще (вот стул, вот старый чемодан). «Личностный смысл» воплощается в значениях, прикрепляется к ним и создает «пристрастность человеческого сознания» (А. Н. Леонтьев). Личностный смысл и превращает обыкновенную материальную вещь в «храм духа». «Чемодан» – книга о личностных смыслах вещей, которые стали для автора этапами его судьбы, воспоминанием о «такой России». «Я оглядел пустой чемодан. На дне – Карл Маркс. На крышке – Бродский. А между ними – пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за тридцать шесть лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал – неужели это все? И ответил – да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья. И теперь вырвались наружу». В книге подводятся предварительные итоги пропащей, бесценной, единственной жизни. Образ героя‑повествователя собирается, складывается из вещей по принципу детской считалки: «Точка, точка, запятая, минус: рожица кривая». Носки, полуботинки, рубашка, костюм, куртка, офицерский ремень, шапка, перчатки – вот и вышел человек‑человечек. И он уже не деталь в пейзаже «зоны» или «заповедника», не один из персонажей на страницах «семейного альбома», а портрет на фоне вещей и времени. Потому наряду с уже не раз использованными армейским, семейным, газетным пластами жизни появляются студенческие и рабочие истории. М. Горький придумал когда‑то литературную серию «История молодого человека XIX столетия». «Чемодан» вполне может претендовать на фрагментарную историю молодого человека середины века двадцатого. Обыкновенную российскую историю. Забавную и грустную. Развертывающуюся между полюсами анекдота и драмы. Все начинается с «копеечных», анекдотических историй. Фарцовщики купили носки, надеялись серьезно заработать при их перепродаже – а назавтра ими завалили все магазины, и дело прогорело («Креповые финские носки»). Стащил ради шутки работяга у начальника туфли – и тому пришлось притворяться больным, чтобы выйти из конфузной ситуации («Номенклатурные полуботинки»). Приехал дружественный швед писать книгу о России, шесть лет язык изучал – но его приняли за шпиона и через неделю отправили обратно («Приличный двубортный костюм»). Однако эти простые сюжеты автор расцвечивает афоризмами, неожиданными гиперболами, психологическими парадоксами. Абсолютно бытовая, правдоподобная история о неудачной фарцовке на последней странице приобретает фантастический колорит. «Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял двести сорок пар. <…> После этого было многое». Дальше конспективно перечисляются вехи «трудовой» биографии Довлатова‑героя: переход на другой факультет, новые финансовые операции, женитьбы и рождение ребенка, робкие литературные попытки. «И лишь одно было неизменным, – продолжает рассказчик. – Двадцать лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки, вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшилось. Так я и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь три пары сунул в чемодан». Поделите двести сорок пар на двадцать лет, добавьте кучу брошенных в квартире, использованных и подаренных. Злосчастные носки превращаются в сказочную фольклорную кашу, которая не кончается, сколько ее ни ешь. Но даже в этом абсолютно анекдотическом тексте появляется тень драмы – рассказ о несчастной первой любви, из‑за которой и возникла афера с носками. В последних сюжетах грусть, тоска накапливаются, тяжелеют, выходят на первый план, окончательно превращают анекдот в драму. «Поплиновая рубашка» – история трудных отношений повествователя с женой, рассказанная простодушно, сентиментально, почти по‑карамзински: и писатели‑неудачники любить умеют. Парадоксальное двадцатилетнее сосуществование двух не очень удачливых и не очень счастливых людей заканчивается просмотром семейного альбома. На старых фотографиях перед героем калейдоскопически быстро проходит, оказывается, совсем незнакомая жизнь. Детство, родители, школа, институт, отдых на юге. Самодельная кукла, стоптанные туфли, дешевый купальник. «И везде моя жена казалась самой печальной». И вдруг на последней странице этой трогательно‑жалкой родословной оказывается квадратная фотография размером чуть больше почтовой марки. «Узкий лоб, запущенная борода, наружность матадора, потерявшего квалификацию. Это была моя фотография. Если не ошибаюсь – с прошлогоднего удостоверения». Что произошло? Почему у него перехватывает дыхание? Нормальное детское чувство единственности и незаменимости в мире обычно сменяется у взрослого человека зыбким ощущением анонимности, неуверенности в собственном существовании. Вероятно, это комплекс «маленького человека», «нищего», «изгоя». Лучше всего о нем писали Достоевский и Франц Кафка (Довлатов ценил этого писателя, посвятил ему отдельную статью). Человек существует, пока он рядом. Он исчезает – ив мире возникает пустота, дыра, абсолютное забвение. И каким же оказывается потрясение, когда внезапно слышишь разговор о себе в твое отсутствие. Название вырывает нас из анонимности существования. Фотография в альбоме свидетельствует о том же. «Хотя, если разобраться, что произошло? Да ничего особенного. Жена поместила в альбом фотографию мужа. Это нормально». Рассказывая похожую историю в «Заповеднике» и «Наших», повествователь подводил итог иронически‑застенчивым афоризмом: «Тут уже не любовь, а судьба». Здесь же Довлатов меняет итоговую формулу, обращается к иному, драматически‑прямому слову: «Значит, все, что происходит, – серьезно. Если я впервые это чувствую, то сколько же любви потеряно за долгие годы?.. У меня не хватало сил обдумать происходящее. Я не знал, что любовь может достигать такой силы и остроты. Я подумал: „Если у меня сейчас трясутся руки, что же будет потом?”». Однако долго существовать в состоянии такого прозрения невозможно. Потом оказывается простым и будничным: «В общем, я собрался и поехал на работу…» Кульминацией «Чемодана» становится последний рассказ «Шоферские перчатки». Банальная идея «пылкого Шлиппенбаха», расчетливого диссидента («Фильм будет, мягко говоря, аполитичный… Надеюсь, его посмотрят западные журналисты, что гарантирует международный резонанс»), посмотреть на советский Ленинград глазами его основателя Петра Великого приводит к неожиданному результату. Одетый Петром герой сначала мерзнет на стрелке Васильевского острова, а потом оказывается в очереди у пивного ларька. «Вокруг толпятся алкаши. Это будет потрясающе. Монарх среди подонков», – развивает свою идею неуемный Шлиппенбах. «Подонки» тут, пожалуй, значит не «мерзавцы», а нечто иное, почти горьковское: «люди дна» – «измученные, хмурые, полубезумные». Среди них какой‑то кавказец, железнодорожник, оборванец, интеллигент. И – первый парадокс: воскресший император оказывается своим в этом жизненном маскараде, «роковой очереди» за пивом. Ему удивляются так же мало, как ожившему Носу у Гоголя. Он – последний. «Ну что я им скажу? Спрошу их – кто последний? Да я и есть последний». Он подчиняется законам российского демократического похмельного общежития. «Стою. Тихонько двигаюсь к прилавку. Слышу – железнодорожник кому‑то объясняет: „Я стою за лысым. Царь за мной. А ты уж будешь за царем…”» (Андрей Платонов, говорят, считал умение стоять в очереди одной из черт настоящего – советского? – интеллигента.) А активное вмешательство в жизнь диссидента‑демократа («Шлиппенбах кричит: «Не вижу мизансцены! Где конфликт?! Ты должен вызывать антагонизм народных масс!») вызывает – и это второй парадокс – резкий отпор. «Ходят тут всякие сатирики… <…> Такому бармалею место у параши…» Новая Полтавская битва завершается посрамлением шведского потомка: он смиряется, стоит как все и получает большую кружку пива с подогревом. Памятью об этой истории и остаются шоферские перчатки, последняя вещь в чемодане. Довлатовский «Чемодан», в сущности, машина времени. Фанерный сундучок воспоминаний, полный вещих вещей. Жалкая и трогательная память об ушедшей жизни, о родине. «…Но и такой, моя Россия, / ты всех краев дороже мне…» Следующая книга должна была называться «Холодильник». Но для нее Сергей Довлатов успел написать только два рассказа. «Все интересуются, что там будет после смерти? После смерти начинается – история» («Записные книжки»).
Иосиф Александрович БРОДСКИЙ (1940–1996)
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 253; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.127.232 (0.065 с.) |