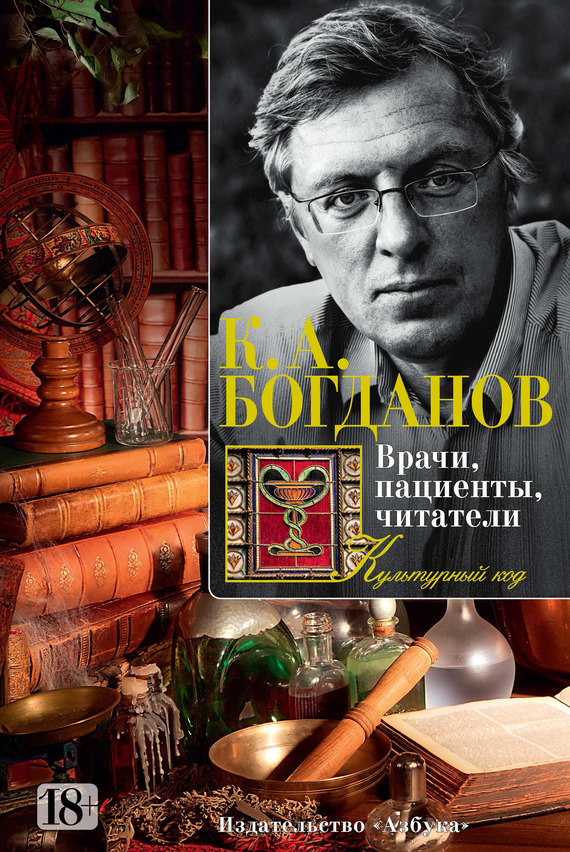Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культурыСтр 1 из 14Следующая ⇒
Культурный код –
«Богданов К. А. Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры»: Азбука, Азбука‑Аттикус; СПб; 2017 ISBN 978‑5‑389‑12884‑2
Аннотация
«Врачи, пациенты, читатели» – самая известная книга Константина Богданова, уникальное по масштабу исследование медицинских и литературных представлений о физической природе человека и их влиянии на общество. Каким образом соотносятся друг с другом медицина и художественная литература? Как воспринимались на Руси медицинские нововведения Петра I? Как относились в XVIII–XIX веках к самоубийствам, хирургическим операциям, лечению с помощью электричества, магнетизму? Почему ужас перед преждевременным погребением приобрел в начале XIX века воистину колоссальный размах? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет на страницах книги «Врачи, пациенты, читатели», сочетающей в себе скрупулезность научного исследования с увлекательностью изложения. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей русской культуры.
К. А. Богданов Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры
© К. А. Богданов, 2005, 2014 © Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука‑Аттикус“», 2017 Издательство АЗБУКА®
Живые и мнимоумершие
Несчастия, страстей и немощей сыны, Мы все на страшный гроб родясь осуждены. Всечасно бренных уз готово разрушенье. А. С. Пушкин. Безверие, 1817
Когда вы… принуждены будете искать помощи у врачей и лекарей, то всячески берегитися в выборе оных: не следуйте примеру тех, кои в сем поступают по моде или по случаю и избирают для себя врачом или лекарем первого им встречающегося краснобая или рассказчика, а нередко и лжеца, который многословием своим легко уговаривает и на свою сторону преклоняет всех его слушающих. Н. М. Максимович‑Амбодик. Врачебное веществословие, 1783
Медицина и (или) литература: предисловие
Предмет настоящей работы – патографический дискурс русской культуры XVIII–XIX вв. Под термином «патография» при этом понимается не «диагностирование» тех или иных представителей русской культуры на предмет их физического и психического здоровья, но сумма определенных, преимущественно литературных, контекстов, демонстрирующих взаимосвязь общественных представлений о медицине, с одной стороны, и о болезнях и смерти – с другой. В отечественной гуманитарии термин «патография» и сама традиция «патографических» описаний чаще воспринимаются в первом из указанных значений и относятся к особой части клинической и социальной психиатрии, использующей методику установления личностных аномалий в связи с социальной деятельностью субъекта. Предметом патографии в этом случае являются прежде всего выдающиеся личности прошлого и настоящего, а методологическими основаниями патографического описания служат объяснительные концепции, прямо или косвенно восходящие к идеям Чезаре Ломброзо, Поля Мёбиуса, Макса Нордау, Зигмунда Фрейда. В России расцвет психиатрической патографии (или, как она еще называлась, «психографии») пришелся на начало и первые десятилетия XX в. и был прямо связан с работами психиатров, ретроспективно «диагностировавших» авторов русской и мировой литературы, а заодно и их героев (работы И. П. Ковалевского, В. Ф. Чижа, М. О. Шайкевича, Н. Н. Баженова, И. Д. Ермакова). В 1925–1930 гг. в Екатеринбурге под редакцией Г. В. Сегалина издавался «Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии)», популяризовавший «патографические» диагнозы в контексте клинической психиатрии и невропатологии[1]. В западноевропейской науке хрестоматийной работой в сфере психиатрической патографии стала вышедшая в 1928 г. и многократно переиздававшаяся впоследствии обширная монография немецкого психиатра Вильгельма Ланге‑Айхбаума «Гений, безумие и слава: мифология и патография гениальности» (1928) [Lange‑Eichbaum 1967]. В последние годы на волне гуманитарного «интердисциплинаризма» об эвристических возможностях психиатрической патографии напомнили филологи, философы и историки, придавшие вместе с тем самому термину «патография» более широкое значение, чем то, каким пользовались их предшественники – психиатры и психологи [Смирнов 1994; Руднев 2002][2]. Тенденция к более широкому пониманию термина «патография» очевидна сегодня также для западноевропейской[3] и особенно американской науки, в наименьшей степени связывающей его употребление с психиатрией и психологией. Новейшее издание «The American Heritage Dictionary of the English Language» (2000) определяет «патографию» в двух значениях: «1. Ретроспективное, обычно врачебное, исследование возможного воздействия и последствий болезни на жизнь и творчество исторического лица или группы лиц. 2. Особый жанр биографии, акцентирующий негативные стороны в личной жизни и труде описываемого лица, будь то неудача, невзгода, болезнь и трагедия»[4]. Термин «патография» в таком – этимологически буквальном – понимании (παθος – страдание, болезнь, γραφω – пишу) имеет в виду «картину болезни» в широком смысле: описание болезни пациентом (в этом случае, как это делает Томас Каузер, оно иногда определяется термином «автопатография» [Couser 1997]), врачом и (или) сторонним рассказчиком, например автором художественного произведения, а в специализированном употреблении синонимичен междисциплинарному (медицинскому, антропологическому и литературоведческому) термину «illness narratives», обозначающему вообще любые «повествования о болезнях». Контекстуально термин «патография» соотносится при этом с термином «танатография» – описанием умирания и смерти[5]. Нелишне добавить, что с медицинской точки зрения польза соответствующих описаний видится не только информационной, но и терапевтической – способствующей лучшему пониманию опыта персональной заботы о собственном здоровье[6]. Терапевтические особенности патографической риторики, используемой пациентами, говорящими о своих болезнях, проявляются также и в том, что больные, по выражению социолога Артура Франка, это – «травмированные рассказчики» (wounded storytellers) и, значит, творцы особого типа нарративов. Цель таких нарративов, превращающих болезнь в тему повествований, состоит в подсознательном поиске излечения – в замещении реальной болезни болезнью, существующей только в рассказе, а кроме того, не в последнюю очередь – в этическом оправдании недугов, которыми реально страдает рассказчик [Frank 1997][7]. Ниже я буду пользоваться термином «патография» в широком смысле, как релевантным обозначению любых дискурсивных репрезентаций болезни и смерти.
Стоит ли, однако, думать, что эти репрезентации в каком‑либо отношении важны и особенны для русской культуры XVIII–XIX вв.? Александр Вуцинич, автор ценных работ по культурной истории отечественной науки, полагал, что медицинская профессия в России не являлась сколь‑либо социально значимым идеологическим институтом вплоть до 1860‑х гг. [Vucinich 1970: 7, 228–230]. Согласиться с этим утверждением без поправок нельзя (особенно если учитывать опыт войн и эпидемий), но нельзя, конечно, не видеть, что роль медицины и сама трансмиссия медицинских идей в дореформенной России сильно разнятся с тем, что происходит в это же время на Западе. Одно из очевидных в данном случае отличий – это заметный диссонанс между институализацией и популяризацией медицины, кардинальная роль идеологии и, в частности, художественной литературы в пропаганде медицинского знания. Образы врачей присутствуют на страницах целого ряда хрестоматийных произведений русской классической литературы. Среди авторитетных литераторов и деятелей русской культуры врачи тоже не редкость [Змеев 1886]. Дело, однако, не только в непосредственных «биобиблиографических» и сюжетных перекличках между литературой и медициной, но именно в том, что изображение медицинской профессии в русской литературе в существенной степени определяет представление не только о медицине, но и о самом русском обществе. Даже в работах, посвященных социальным, экономическим и политическим аспектам институализации медицинской профессии в России, литературные образы врачей нередко сопоставляются с образами реальных врачей – в таком ряду лермонтовский доктор Вернер «встречается» с пятигорским доктором Майером, тургеневский Базаров с Сеченовым, чеховские Астров, Дорн и Чебутыкин с самим Чеховым. Приступая к исследованию социальной истории русской медицины второй половины XIX в., Нэнси Фриден не случайно начинает свою книжку с вопросов, сформулированных в отталкивании от литературного дискурса: «Были ли похожи русские врачи на свои литературные портреты? Расширяет ли изучение их истории наше понимание русского общества в целом?» [Frieden 1981: XIII]. Вопросы эти, по‑видимому, действительно неизбежны для любого, кто пишет о русской медицине. Сложность здесь в том, чтобы найти необходимый компромисс в соотнесении литературного и исторического контекста, в выполнении требований, налагаемых определенностью той научной дисциплины, в рамках которой работает исследователь. В книге Фриден вышеприведенные вопросы ставятся как изначально предполагающие историческую реальность, существующую вне и помимо литературного дискурса: «Какой была действительность, – спрашивает она, – стоящая за спиной тургеневского Базарова и чеховского Астрова?» [Frieden 1981: XIII]. С позиций социальной антропологии и исторической психологии такое различение литературной и исторической действительности выглядит, однако, уже проблематичным: по известной теореме Томаса, всё, что воспринимается в качестве существующего, не исключает, как хорошо известно социологам, реальных последствий. При внимании к мировоззренческому контексту, в котором происходила институализация медицины как профессии, нелишне помнить к тому же, что институализация профессионального знания представляет собою процесс, постулируемый для разных социальных групп и разных идеологических ситуаций. История медицины – это, как однажды заметил Рой Портер, в конечном счете – история разных историй [Porter 1992: 1 ff][8]. Если эти различия и не имеют решающего значения ввиду некоей «единой» для общества истории, они становятся существенными при интересе к тому, насколько однозначно, одинаково видели эту историю те, кто в ней жил и переживал ее как повседневность? Таков еще один вопрос, который важен для настоящей книги.
Начиная с Петра I проводником возлагаемых на медицину социальных и психологических надежд в России выступает власть, и именно царская власть. Властное доверие к европейской медицине способствует внедрению медицинского знания в социальную практику. Идеологический контекст медицинских нововведений нередко предшествовал самим этим нововведениям – доверие к европейской медицине было достаточным фактором, чтобы такие нововведения состоялись. Основанная в 1714 г. Петром Кунсткамера стала примером анатомического музея в отсутствие анатомических исследований, прививка натуральной оспы Екатерине II и наследнику престола – будущему императору Павлу I в 1768 г. была прецедентна к последующей истории инокуляции и вакцинации. Примеры властного насаждения медицинского знания в России слишком легко умножить, чтобы усложнить иногда встречающееся представление о «собственно научной» истории медицины. Медицинская профессия, призванная облегчить человеческие страдания (и декларирующая это призвание сакраментальной для европейской культуры «клятвой Гиппократа») [Lichtenthaeler 1984][9], изначально – и повсюду – является властным институтом. В качестве такого института медицина адресуется не к конкретному человеку, а к определенной группе людей, объединяемых единством вменяемой им социальной функции. Толкот Парсонс назвал такую функцию «ролью больного» (sick role) и заложил основы аргументации, заставляющей думать, что больные становятся больными не тогда, когда у них нечто «болит», а когда они готовы стать пациентами и подвергнуться медицинскому попечению, довериться социально институализованной «медикализации»[10]. Важно понимать, что природа подобной медикализации (как и природа любой социальной роли) по меньшей мере небесконфликтна, – чтобы иметь дело с «пациентами», медицина конструирует «болезни», но уже тем самым, по выражению Айвона Иллича, присваивает, «экспроприирует» здоровье [Illich 1976b]. Ответ на вопрос, что заставляет больного становиться пациентом, предполагает, таким образом, прежде всего ответ на вопрос, что для данного общества считается здоровым, а что нет. Но почему больной соглашается на соответствующую институализацию и что примиряет его с ней? Соматическая потребность в избавлении от боли является, разумеется, определяющим, но не единственным поведенческим фактором, заставляющим человека обращаться к врачу. Люди болели всегда и везде, но человеческие страдания не всегда и не везде лечились средствами медицины – история знает бесконечное число примеров, когда страдающие от боли люди отказывались (и отказываются) прибегать к помощи врачей, ища помощи у каких‑то иных социальных институтов (например, в религии) и в альтернативных (например, ритуально‑фольклорных) практиках врачевания. Более того, само ощущение человеком тех или иных страданий опосредовано культурно и идеологически, выражается по‑разному и требует различных способов врачевания (совсем не обязательно связанных с медицинской профессией)[11]. Нельзя забывать и того, что понятия боли и болезни всегда соотносились достаточно условно как в нозологическом, так и в клиническом отношении, – облегчить страдания больного еще не означает излечить болезнь, и наоборот – излечение болезни не всегда означает устранение боли (например, «фантомной боли» после ампутации) [Кассиль 1969: 272–279][12]. Язык власти, обслуживающий профессионализацию медицины в любом обществе, является поэтому не только декларативным, но и суггестивным, ориентированным на эмоциональную и дидактическую убедительность манифестируемого им знания. Объектом медицинского знания в конечном счете является не только пациент, но и лечащий его (и уже тем самым репрезентирующий стоящую за ним власть) врач – проблема, нашедшая свое риторическое выражение уже в Евангелиях – в упреке, который, по словам Христа, могли бы предъявить ему иудеи: «Врач! Исцели самого себя!» (Лука 4: 23)[13].
Медицинские идеи выражаются на языке, призванном, таким образом, не только объяснить болезнь и методы лечения, но и убедить – или, во всяком случае, не спровоцировать к протесту – тех, кто предполагается объектом такого лечения. В XIX в. об этой – дидактико‑риторической – стороне медицинского профессионализма рассуждал Фридрих Ницше, считавший необходимым, чтобы врач стремился к высшему духовному развитию не только в том, «что он знает лучшие новейшие методы, усовершенствовался в них и умеет совершать те летучие умозаключения от следствий к причинам, благодаря которым прославлены диагностики; он должен, кроме того, обладать красноречием, которое бы приспособлялось к каждой личности и привлекало бы все сердца, мужественностью, само зрелище которой отгоняло бы малодушие (эту червоточину всех больных), ловкостью дипломата в посредничестве между лицами, которые для своего выздоровления нуждаются в радости, и лицами, которые в интересах своего здоровья должны (и могут) доставлять радость, тонкостью полицейского агента и адвоката, чтобы узнавать тайны души» [Ницше 1990: 369][14]. В своем перечне идеальных качеств врача Ницше не случайно объединяет инстанции власти и говорения (врач‑полицейский, врач‑адвокат, врач‑дипломат). Само существование медицины предполагает, что она реализует именно риторические стратегии власти – стратегии произвола и принуждения, согласия и подчинения. Ясно и то, что для европейской культуры указанные стратегии непредставимы вне словесности и, у́же, литературы. В русском языке понятия врачевания и говорения связаны этимологически: «врач» (слово, известное уже в XI в.) – это тот, кто «заговаривает» бол(езн)ь, а в более широком смысле – тот, кто умеет соответствующим образом «говорить». К этому же этимологическому ряду относится, стоит заметить, и глагол «врать» [Срезневский 1989: 315; Этимологический словарь русского языка 1968: 193] – в напоминание о том, что привычные инвективы на предмет «вранья» врачей и медицины заложены в русском языке уже изначально[15]. Соотнесение врачевания с искусством убеждения характерно выразилось в топике духовно‑назидательной литературы, издавна пользовавшейся метафорами «книга – врач», «чтение – лекарство» [Сазонова 1981: 149][16]. Европейские этимологии, иллюстрирующие семантический контекст понятия «врач», менее прозрачны, чем в русском языке, но смысловая связь врачевания, говорения и (воспользуюсь эвфемизмом) вымысла и риторики осознавалась в европейской медицине на протяжении всей ее истории – показательно уже то, что сам характер медицинского образования до недавнего времени (в России – до середины XIX в.) обязывал изучающего медицину также к изучению основ европейской гуманитарии – латинскому языку, чтению античной классики. Врач воспринимался не только как практик, но и как ритор. Риторический контекст медицины никогда не являлся при этом (и до сих пор не является) самодостаточным. И «болезнь», и «здоровье» – слова, истолкование которых изменчиво исторически, противоречиво социально и осложнено этически [Magin 1981: 236–238; Harlеу 1999: 407–435][17]. «Сказанное» врачами обращено к тем, кому тоже есть что сказать. Коммуникация врачей и пациентов осуществляется не в «безмолвном» пространстве социального взаимодействия, а в пространстве словесного, но значит – и литературного, авторски‑читательского контакта[18]. Предпосылкой, служащей для объединения медицины и литературы, является, таким образом, прежде всего риторико‑коммуникативная специфика самой медицинской профессии. «Олитературенность» медицинской профессии напоминает о себе не только тем простым фактом, что в литературе есть сюжеты из области медицины и упоминаются врачи, но и тем, что конструирование и трансформация социальной «роли больного» в обществе, где существует литература, происходит не без ее участия. Роль литературы в социальных представлениях о медицине выражается в большей или меньшей апологии различных способов врачевания, в создании устойчивых образов врачей и предопределенных сценариев взаимоотношений врачей и пациентов, в поддержании предубеждений и мифов, связанных с самой медицинской профессией. Применительно к разным читательским аудиториям эффект воздействия литературы представляется различным: образованный читатель читает иное и иначе, чем необразованный, горожанин иначе, чем крестьянин, мужчина иначе, чем женщина, взрослый иначе, чем ребенок, и т. д., но в любом случае – везде, где литература существует и пользуется читательским спросом, – отношение к медицине и врачам опосредовано литературным контекстом. Не стоит, вероятно, спорить с тем, что «литературные иллюстрации медицинской науки нельзя понимать буквально. В конечном счете и проза, и тем более поэзия пишутся словами, а не идеями» [Rousseau 1982: V], но, не будучи платоником, было бы странно полагать, что есть такие идеи, которые существуют без слов. Читатель, становящийся пациентом, остается читателем. Не исключено, что лечащий пациента (а значит, и читателя) врач также является читателем и, более того, сам может стать пациентом. Врач, представляющий то, чтó читал пациент, лучше понимает, кого он лечит. Но и пациент оценивает врача не без оглядки на это представление. Доверие к врачу предполагает доверие к его знанию, но, значит, и доверие к врачу как читателю (а также, быть может, и доверие к нему как возможному пациенту). В ретроспективе общественной и научной мысли осознание всех этих обстоятельств методологически подготовило возникновение в США, а затем и в Европе особой гуманитарной дисциплины «литература и медицина» («literature and medicine»). В своем первоначальном виде терминологическое «объединение» литературы и медицины преследовало практические цели педагогического характера – стремление «гуманизировать» медицинское образование за счет преподавания студентам‑медикам художественной, философской и религиозной литературы, повышение общекультурного уровня практикующих врачей. К началу 1980‑х гг. преподавание новой дисциплины развивается также в теоретическом плане: с одной стороны, в специфическом отборе анализируемых литературных произведений в соответствии с «медицинским» профилем студенческой аудитории, а с другой – в адаптации самого литературоведческого анализа к «терапевтическим» ценностям медицинской профессии. В итоге такого, отчасти противоречивого, развития дисциплины публикации в рамках «literature and medicine» объединяют сегодня как собственно литературоведческие работы, посвященные медицинским темам (например, образам врачей, описаниям операций и т. п.), так и работы, акцентирующие взаимопересечение литературного и медицинского дискурса в сфере психологии, истории идей, аудиовизуальной культуры и т. д. [Trautmann, Pollard 1975; Neve 1988: 1520–1535; Engelhardt 1991, 2000[19]; Dans 2000]. О методологическом согласии, унифицирующем оба подхода, говорить еще рано, но «институциональное» пространство для дискуссий на предмет теории и практики (прежде всего практики преподавания) «literature and medicine» уже существует[20]. Настоящую книгу также можно отнести к этому кругу исследований – с тем уточнением, что термин «литература» понимается при этом в широком смысле, как равнозначный понятию словесности, а лучше сказать – тому, что определяется немецким термином «Schriftkultur»: это не только художественная, но также научная, публицистическая, мемуарная литература и даже фольклор – если под «фольклором» понимать не только устные, но и письменные формы его ретрансляции[21]. В истории современной общественной мысли «совпадение» интересов гуманитариев и врачей может показаться ангажированным исключительно институциональными причинами академического порядка[22]. Я полагаю, однако, что причины внимания к гуманитарным импликациям медицинской профессии лежат глубже. Антропологический и, в частности, историко‑филологический интерес к медицине контрастирует с позитивистским пафосом «строгой науки» второй половины XIX в., но содержательно детерминирует медицинскую теорию уже у ее истоков. Тезис Гиппократа «человек болен» предопределил силлогистический вывод о необходимости лечить самого человека, тезис представителей книдской школы врачевания «у человека есть болезнь» – способствовал концептуализации понятия «болезнь» в отвлечении от носителя самой болезни. Теоретический фундамент европейской медицины явился, таким образом, изначально риторизованным и небезразличным к противопоставлению гуманитарного, антропологического и внеантропологического представления об объекте медицинского интереса[23]. Своего наибольшего напряжения противопоставление двух стратегий врачевания достигло в конце XIX в. – в эпоху естественно‑научных открытий, радикально изменивших медицинскую теорию и клиническую практику. Беспрецедентные открытия, сделанные к этому времени преимущественно в области патологоанатомии и патогенеза, прославившие имена Ксавьера Биша, Рудольфа Вирхова, Николая Пирогова, Карла Рокитанского, Роберта Коха, Джозефа Листера, Луи Пастера и многих других ученых, породили надежды на возможность построения такой медицинской диагностики, в которой самому пациенту отводилось бы минимальное место. Доминирующей особенностью медицинской теории второй половины XIX в. становится апология «лаборатории» в противовес клиническому наблюдению пациента «у постели» дома и в госпитале[24]. В глазах единомышленников таких великих позитивистов, как Рудольф Вирхов, лаборатория служила логичной альтернативой спекулятивной философии предшествующей медицины, но оказалась при этом атрибутом не просто научной, но также мировоззренческой и, соответственно, идеологической стратегии, так или иначе диссонировавшей привычным ценностям религиозного «человеколюбия», интимно‑личного контакта врача и пациента [Ackerknecht 1975: 247–253]. Образ медика отныне связывается в большей степени с манипуляцией над лабораторными колбами и разрезанными лягушками, нежели с персональной помощью врачующего советчика (немецкий язык разводит с этого времени эти роли даже аксиологически: «Mediziner и Arzt – два совершенно различные понятия, можно быть ординарным профессором медицины и не иметь в себе даже намека на существо врача» [Осипов 1929: 47]). Неудивительно поэтому, что именно медики «эпохи лаборатории» несравнимо чаще, чем представители иных социальных профессий, удостаиваются расхожей (и часто незаслуженной) репутации «материалистов», «нигилистов», «агностиков» и т. п. (так, кстати, Тургенев, зачисливший выдуманного им студента‑медика Базарова в ряды нигилистов, предвосхитил характеристику, которая впоследствии будет прилагаться к Карлу фон Рокитанскому (ум. в 1878 г.) и Йозефу Шкоде (ум. в 1881 г.) – венским ученым, с именами которых связывается создание так называемой нигилистической школы в медицине [Steudel 1889]). К началу XX в. социальные надежды, ангажировавшие расцвет «лабораторной медицины», если не исчезли, то во всяком случае сильно потускнели. Даже приверженцы строгих причинно‑следственных объяснений, излюбленных Вирховом (если есть болезнь, значит болезнь вызывается определенной – и определенно локализованной – причиной), ищут компромиссов, способных предложить не унитарную, а поливалентную этиологию заболевания или смерти. Активно обсуждаемой темой научно‑медицинских дебатов в это время становится вопрос о так называемом каузальном и конвенциональном мышлении в медицине – объяснении патогенетических процессов в терминологии причин и следствий, или же – в терминологии условий, при наличии которых происходит то или иное явление, конвенционально определяемое как «жизнь», «болезнь» или «смерть» [Рохлин 1922; Шор 1925: 20–30]. В целом, при всех своих собственно теоретических частностях, спор каузалистов и конвенционалистов был очередным возвращением к старинному вопросу о предмете и возможностях медицинского познания. Лечить болезнь или лечить человека? Медицинские открытия XVIII–XIX вв. могли казаться чудом по сравнению с практикой предшествующей медицины (достаточно упомянуть хотя бы изобретение наркоза и антисептики) [Williams 1987], но, как и любые научные открытия, их «чудотворность» в конечном счете оказалась условной и относительной: люди по‑прежнему продолжали болеть, умирать и, кроме того, продолжали помнить и думать о смерти. Спинозе принадлежит ставшая крылатой фраза: «Homo liber de nulla reminus quam de morte cogitat» – «Свободный человек меньше всего думает о смерти». Но насколько человек свободен или попросту здоров, чтобы не думать о смерти вовсе? Перед лицом этого вопроса медицина неизбежно обнаруживает свое родство с деонтологией, биоэтикой, а шире – с той областью мысли, с которой она была связана изначально, – с философией, религией, искусством убеждения [Jonsen 2000]. Основа подобной связи состоит, вероятно, в том, что телесное здоровье может считаться жизненным средством, но не равноценно цели и смыслу человеческой жизни [Harris 1997]. Как бы ни определять при этом культуру, ясно, что если она хотя бы в каком то отношении небезразлична к вопрошанию о ценности человеческого существования, то это небезразличие не в последнюю очередь выражается и в тех текстах, которые могут быть названы «патографическими». Культура послепетровской России вообще и русская литература XIX в. в частности представляют собой, как это часто повторяют, уникальное явление в мировой истории. Но что это значит? Очевидно, что критерием обобщенного сравнения мировых культур и (или) литератур может служить исключительно широкая шкала оценок, обязывающая уже тем самым к некоей аксиологической унификации – будь то этика, эстетика, эмоциональная модальность (пессимизм/оптимизм), уровень интеллектуализма (что мешает думать, что для мировых культур и литератур тоже можно изобрести релевантный IQ?). Не приходится спорить, что русская интеллектуальная история обнаруживает прочную взаимосвязь между религиозной, философской и общественно‑политической мыслью [Rzhevsky 1983: 16]. Но потому же не стоит удивляться, что в контексте этой взаимосвязи «уникальность» русской литературы XIX в. описывается различным образом: одни исследователи подчеркивают доминирующую в ней роль морально‑нравственной дидактики [Андревич 1922][25], другие – вездесущую «соборность» [Есаулов 1995], третьи – преимущественную выразительность «печальных текстов» [Белянин 1996а][26]. Понятно, что все эти оценки в той или иной мере являются условными, но нельзя, по‑видимому, не считаться с тем, что их обусловливает, – с возможностью выделения таких «дискурсивных» элементов (образов, тем, стилистических особенностей) текста, которые опознаются как семантически атрибутивные не только к данному тексту, но и к другим текстам, связываемого с ним литературного [Дрозда 1994: 291 и след.], а шире – культурного контекста («обозримого контекста», «observable context», если воспользоваться удачным термином Джефри Лича [Leech 1974: 74]). Предпосылкой настоящей работы явилось впечатление, переросшее со временем в нечто вроде рабочей гипотезы, позволившей задаться вопросом – служит ли прочтение русской литературы с упором на тексты, посвященные болезням, умиранию и смерти, более глубокому пониманию русской культуры? То, что русская литература демонстрирует определенную склонность ее авторов к патографическому дискурсу, казалось мне (и кажется по сей день) в общем очевидным. В конечном счете едва ли случайно ее читатели‑психиатры утверждают, что «депрессивность (наравне с циклоидностью и эпилептоидностью) занимает значительное место в ментальности русского народа» [Белянин 1996а][27], что рефлексивные метаустановки, доминирующие в русской культуре, предрасполагают к «пессимистической» модели социального поведения – видеть в окружающих врагов и готовиться к худшему [Lefebvre 1982][28], что «моральный мазохизм и культ страдания» являются определяющими характеристиками русской культуры и «русской души» [Rancour‑Laferriere 1995][29]. Максим Горький, предвосхищая схожие характеристики, саркастически писал в 1924 г. о литературе предшествующего столетия: «Русская литература – самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем, – в юности и зрелом возрасте: от недостатка разума, от гнета самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной; в старости: от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть» [Горький 1933: 203]. Корректны такие оценки с психологической точки зрения или нет, мне трудно отрицать их читательскую оправданность. Очевидно, что не только русская классическая литература, но и любая другая мировая литература может быть прочитана в свете патографических текстов. Описания телесных и душевных страданий, а также болезней, умирания, смерти являются универсальными для мировой литературы [Daemmrich, Daemmrich 1987: 78–87; Caswell, Goodwin 1988: 328–346]. Но значит ли это, что интерес к таким описаниям выражается одинаково и свидетельствует об одном и том же? Работы, написанные за последние тридцать лет по социологии чтения, достаточно убеждают, что как сама возможность литературы, так и возможность ее чтения обеспечивается не наличием письменности, а претензией власти монополизировать социальное знание. «В России литературные институции, – как полагает В. М. Живов, – полностью отсутствуют вплоть до 1760‑х гг. <…> ни социальной, ни политической функции литература не имеет» [Живов 2002: 558]. Спорить с этой датировкой в общем не приходится, но ясно и то, что сами эти институции возникли не вдруг, но на уже сложившемся фундаменте идеологически контролируемых институций письма и чтения. Хронологически исходным рубежом такого контроля в нашем случае резонно считать Петровскую эпоху, ознаменовавшую, с одной стороны, формирование системы государственного образования (радикально реструктурировавшего социальную аксиологию письма/чтения), а с другой – создание системы государственной медицины (не менее радикально реструктурировавшей социальную аксиологию здоровья/болезни). С исторической точки зрения литература (Schriftkultur), при всех оговорках на предмет различий в образовательном цензе и количественных показателях грамотности в России XVIII–XIX вв.[30], выступает со времени Петра и остается до сих пор важнейшим средством «конструирования» социальных ожиданий и реализации соответствующих этим ожиданиям властных стратегий. По контрасту с устной традицией письменность, как это заметил уже Платон, способствует отчуждению памяти от ее носителя и передоверяет ее тексту и стоящему за ним «автору». Но насколько этот процесс деструктивен для читателя? Вослед теориям «новой критики» (new criticism) – прежде всего работам Нортропа Фрая и Джона Викери – литературоведы привычно указывают на генетическую и типологическую преемственность литературы с мифологией, в частности на насыщенность литературы различного рода мифологическими подтекстами, «архетипическими» представлениями, семантическими «константами» и т. д. Литературные произведения понимаются при этом как хранилища информации, которые, по‑видимости, репрезентируют «новое знание», но на глубинном уровне (понимаемом, как правило, в психоаналитических терминах) транслируют знание традиционное и «общеизвестное». Применительно к общественному сознанию (и обществу в целом) [Лепти 1996: 148–164] письменных культур Нового и Новейшего времени роль литературы представляется, таким образом, не только семантически, но и функционально сопоставимой с ролью мифологических (resp. фольклорных) представлений в архаических культурах. Как медиальное средство ретрансляции традиционного знания литература способствует сохранению коллективной «памяти», поддержанию принятого в данной культуре «порядка вещей», но, значит, и сама является инструментом коллективной (само)мифологизации. Кажется вполне показательным, что изучение фольклорных текстов европейской культуры – в том виде, в каком они реально доступны нам для изучения, – так или иначе подразумевает обращение к литературной традиции. Убеждение в наличии некоего «чистого» фольклора или «чистого» мифа применительно к культурам, в которых уже существует литература, – не более чем иллюзия[31]. Е. М. Мелетинский, давший содержательную сводку концепционных представлений о мифе, писал в середине 1970‑х гг. об упорядочивающей функции мифа, о его социальности и даже социоцентричности, определяемом общественными интересами рода и племени, города и государства. Но ведь то же самое можно сказать и о литературе: подобно тому как в архаических обществах «одним из средств поддержания порядка является воспроизведение мифов в регулярно повторяющихся ритуалах» [Мелетинский 2000: 170][32], в обществах письменных – социальное целесообразие литературы обусловливается ее регулярным воспроизведением в институализованных «ритуалах» письма/чтения.
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.149.252.37 (0.021 с.) |