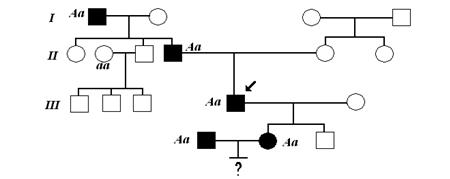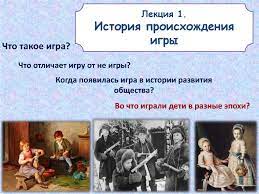Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Покупка медведей. Окладчики. Право охоты в чужих
Владениях. Новый законопроект об охоте. Резолюция Го Всероссийского Съезда охотников. Желательные Ограничения прав собственности на хищных зверей. Стрельба пулею. Медвежья охота, благодаря конкуренции охотников-любителей, настолько вздорожала в настоящее время, что в местностях, близких к нашим столицам, губернским городам и к железным дорогам, начала оплачиваться со всеми расходами дорожными, облавными, квартирными и проч. до 40 руб. или 2 ф. серебра за пуд живого веса медведя, т.е. другими словами весом серебра равным '/го части веса целого медведя. А так как спрос любителей-охотников на медведей будет возрастать и всегда превышать предложение, то не будет невероятным и впредь повышение настоящих цен, а следовательно наш «мишка», как в буквальном смысле слова драгоценный зверь, может потребовать за свою защиту от окончательного истребления ограничительных мероприятий. Следовательно, для охоты на медведей необходимо прежде всего, как для войны, по словам Наполеона, три вещи: деньги, деньги и деньги. Скупать берлоги десятками возможно нередко не только в районах обильных зверем, но и относительно более или менее населенных, где имеются окладчики и зимние дороги и где не представляется необходимым идти на лыжах или проезжать от одного медведя к другому сотни верст. Разыскать и убить такое же количество медведей в незаселенных частях Сибири, которое убивалось одними и теми же охотниками в наших северных губерниях, немыслимо, как бы ни была ее тайга богата этим зверем. Продают разысканных медведей не одни специализировавшиеся опытные окладчики, но очень часто и крестьяне, так или иначе наткнувшиеся на берлогу или следы зверя при рубке леса или промышляя белок, куниц, рысей, лосей и проч. Местоположение своего оклада или берлоги, представляющее для промышленников иногда целое состояние, последний хранит, разумеется, в величайшем секрете: следов туда обыкновенно не делает до времени охоты или приезда охотников, чтобы в свою очередь не быть обложенным другими, а наблюдает за целостью своего зверя окольными путями издали. Если следы зверя, обложенного по следу, не завалит в скором времени снегом, или по первозимью они не вытают, то сохранить оклад от других промышленников бывает не легко, почему между окладчиками возникают очень нередко конфликты, оканчивающиеся обыкновенно тем, что медведя перегоняют с места на место.
Всех найденных медведей обычно многими десятками скупают особые комиссионеры с выдачею задатков и затем перепродают их преимущественно столичным охотникам, разумеется, с хорошим для себя барышом. В районах деятельности таких скупщиков на долю местных охотников-медвежатников, не располагающих денежными средствами для покупки медведей по высоким ценам, остаются медведи им самим разысканные, или такие, которые по равным причинам не могли ожидать приезда охотников-крезов, или были обнаружены после отъезда их, и наконец, все медведи, случай которых стрелять может представиться летом. Покупая медведя, следует первым условием уплаты за него денег по договоренной цене ставить разумеется не только наличность медведя в окладе или в берлоге, но чтобы при облаве медведь был выставлен на стрелков, а на берлоге охотник имел бы возможность видеть зверя. На тот случай, если цена была оговорена с пуда и зверь не будет убит по вине охотников, то устанавливается в пользу окладчика особое вознаграждение. Попудная цена за разных медведей обыкновенно устанавливается неодинаковая, а в зависимости от общего веса зверя. Так например: если за медведя до 5 пудов назначается цена 20 рублей за пуд, то за 10 пудов и более цена значительно повышается. Если окладчик не соглашается продать медведя по цене с пуда и назначает все же высокую цену, то можно быть уверенным, что медведь по величине ничтожный. Покупая медведя в окладе, прежде всего следует удостовериться, был ли обложен медведь с осени или он гонный. В первом случае, требовать точные указания местоположения берлоги и затем уже, зная последнюю, делать дальнейшие распоряжения по устройству облавы, если не предполагается бить зверя на берлоге. Так поступать при покупке окладов необходимо еще и потому, что в большинстве случаев оклады бывают чрезмерно велики и ко времени охоты обыкновенно, за уничтожением
122 123 признаков следов зверя, круг не представляется возможным уменьшить. Зная эти требования, окладчик почти всегда ко времени приезда охотников разыскивает облежавшегося зверя в кругу с помощью собак; умудряется нередко оглядеть на лежке даже тонного медведя, не облежавшегося. Весьма рискованно совершать поездки для охоты на медведей, не разысканных в кругу, обложенных не зарекомендовавшими себя знанием дела окладчиками, или открытых случайно лицами, впервые в жизни наткнувшимися на следы зверя. Известны случаи, когда недобросовестные окладчики над неопытными и доверчивыми охотниками-любителями устраивали такие проделки: при помощи настоящей медвежьей ступни, прикрепленной к палке, прокладывали в оклад след медведя, а после облавы такой же след выводили из оклада, в удостоверение того, что зверь прорвался через загонщиков; или, загонщиков на облаве ставили между медведем и стрелками, выгоняя зверя назад за линию загонщиков, требуя разумеется вознаграждения за упущенного медведя и плату за устройство облавы; отогнав от медведицы лончаков, возможно далее друг от друга, продавали в розницу не один оклад, а несколько; перед взвешиванием попудно проданного медведя, вспарывали ему желудок, наполняли его камнями и зашивали; при облавных охотах на лосей были даже случаи когда один из окладчиков заставлял своего сынишку въезжать и возвращаться в оклад и обратно верхом на корове и т.п. По счастью такие фокусы окладчиков встречаются, как исключение. В большинстве случаев они дорожат своей репутацией в интересах будущего. Заявления таких «медвежатников» сплошь и рядом бывают таковы: «след видел», - понимай - след лося или рыси; «закуси нашел» - зайцы огрызли осинку; «обложили с осени» - пустую петлю и т.д. Однажды прямо из леса явился ко мне крестьянин и заявил желание поговорить «по секрету». - В чем дело? - спрашиваю. - Зверя нашел. - Верно? - Вот те Христос! В заготовке, значит, срубил деревину, а она Поехали на место. Казалось, чего вернее, а на деле: действительно срубленное дерево и под вершиною его обнаженный от снега муравейник. Только сообщения о найденных берлогах, облаянных собаками, бывают по большей части достоверны, и их не следует оставлять без внимания. Для производства охоты, кроме «презренного металла», искусства окладчиков и собственно усердия к разысканию зверя, необходимо еще заручиться правом охоты в чужих владениях. Без этого права затруднения будут встречаться на каждом шагу, как со стороны частных владельцев, так и казны. Первым нередко принадлежат сплошные лесные площади в 5-10-20 и даже 60 тысяч десятин24, а последней - миллионы десятин в Европейской России и Сибири. Между тем, многие частные владельцы разрешения на право охоты не дают, да и сами истреблением хищных зверей не занимаются, вследствие чего их дачи являются какими-то заповедными зверинцами, питомниками и рассадниками хищного зверя, откуда последние, разумеется, вполне безнаказанно производят свои набеги на скот и посевы овса ближайших селений. Что касается права охоты на хищных зверей по билетам в наших казенных дачах, то получение такого права обставлено такими формальностями, ограничениями и находятся нередко в такой зависимости от своеобразного понимания лесничими права охоты, что и с полученными билетами производство охоты становится затруднительным, последствием чего доход казны за право охоты и звериных промыслов с колоссальных лесных пространств, состоящих в ее владениях, продолжает оставаться ничтожным.
Следовательно, и все наши казенные дачи также должны быть отнесены к числу зверинцев, охраняемых лесной стражей. Неудивительно, если за такие ограничения в праве охоты на хищного зверя население лесных губерний и областей нашего отечества ежегодно платит медведям весьма солидную дань. Еще в 1899 году в одном из своих очерков «Медвежьи охоты»25 я писал, что если наш почтенный мишка отнесен к разряду хищных зверей, истреблять которых «дозволяется в течение всего года всякими способами» (ст. 19 Прав, об охоте по закону 3 Февраля 1892 г.), т.е. признан безусловно вредным и подлежащим уничтожению, и если вместе с тем мы убеждаемся на деле, что статья 21 того же закона, наоборот, содействует
25 Журнал «Природа и Охота», апрель 1899 г. - Авт.
124 125 только его размножению, то очевидно, что при ожидаемом пересмотре эта статья в интересах населения должна быть безусловно отменена. Право владельца земли воспрещать у себя охоту на хищного зверя (ст. 21) есть право искусственное, феодальное и чуждое нашему народу и нашим охотничьим традициям. Если хищный зверь вреден для всех, то стало быть, и право охоты на него должно быть предоставлено всем и каждому независимо от территории. Защищать право отдельного лица можно только до тех пор, пока пользование этим правом не приносит вреда другим. При наличности 21 ст., медведь является каким-то движимым имуществом владельца земли, посягнуть на целость которого (т.е. уничтожить), даже без присвоения в свою пользу, посторонний не в праве без разрешения, а эта движимость произвольно меняет своих хозяев, не признает неприкосновенности ни территории, ни личности, ни жизни, ни имущества, и, при полной наличности злой воли, преднамеренно, и даже в сообществе, совершает проступки и преступления едва ли не по всем статьям Уложения. Если при ожидаемом пересмотре закона об охоте право запрещения охоты на хищных зверей от владельцев не будет отнято, то было бы весьма желательно: 1) чтобы таковое право было ограничено определенным сроком в году, по истечении его оно должно быть, кроме владельца земли, предоставлено каждому желающему; 2) допустить в отношении тех собственников, которые сами не принимают никаких мер к истреблению хищников и другим не позволяют, толкование ст. 688, т. X ч. I изд. 1897 г.) законов Гражд. в таком широком смысле, чтобы под дикими и опасными животными подразумевать также и тех, которые проживают на свободе, в лесах этих владельцев и 3) вменить гг. лесничим в обязанность оказывать охотникам на хищных зверей в казенных дачах полное содействие и свободный пропуск во всякое время года, хотя бы и по билетам.
Хотя бывший редактор журнала «Природа и Охота» Н.В.Туркин26 и сделал примечание к этой статье, что «все три пожелания автора перейдут, несомненно, в законодательном порядке», и даже уведомил о том же письменно, но как в зако-
нопроекте об охоте, поступившем ныне на рассмотрение Государственной думы, так и в резолюциях, принятых 2-м Всероссийским Съездом Охотников при рассмотрении этого законопроекта в Москве в 1909 г., этим пожеланиям предложено дать лишь частичное удовлетворение. Так, ст. ст. 20, 21, 29, 30 Законопроекта признают право охоты на хищных зверей исключительно за владельцами земли и лишь ст. 45-я гласит: «Если лица, которым принадлежит право охоты, не принимают меры к истреблению зверей, признаваемых вредными в данной местности, то местный ловчий, а в случае отсутствия его, полиция, обязаны заявить об этом владельцу охоты и предложить принять меры к истреблению таковых в двухнедельный срок. Если же владелец охоты не примет своевременно мер к уничтожению этих зверей, то ловчий, а за его отсутствием местная полиция, назначает с разрешения Губернского или Областного по делам охоты Комитета охоту, о времени которой оповещаются владельцы тех земель, где она предполагается. Для означенных охот могут быть созваны безвозмездно поселяне ближайших селений, причем если облавы устраиваются ловчими, то последние каждый раз обязаны извещать об этом местную полицию. Охота на медведя, найденного в зимнее время, не может быть назначена ранее 1 марта». Если владельцами многих тысяч десятин земли будут ежегодно убиваться 1-2 медведя, то вправе ли будут ловчий или полиция устраивать облавы на его земле? Затем, какие результаты, кроме абсолютного ноля, могут дать облавы, устраиваемые ловчими, или полицией, в летнее время в сплошных лесных массивах, состоящих из дач многих частных владельцев или казны, на площади многих тысяч десятин. Между тем, именно в таких обширных лесах главным образом группируется и размножается хищный зверь, откуда и производит свои опустошительные набеги на ближайшие селения. Затем, каким образом могут производиться охоты на медведей, найденных зимою, после 1 марта, если доступ для разыскания их в даче частного владельца, для всех без исключения, совершенно прегражден?
Разрешение охоты на казенных землях ст. 22 Законопроекта ставит в исключительную зависимость от особых об охоте правил, согласно которых истребление хищных зверей отдельными лицами допускается лишь в виде исключения.
126 127 Таким образом, ст. 45 Законопроекта ограничивает права частных владельцев в отношении хищных зверей лишь на бумаге, а следовательно и весь законопроект никакого улучшения в положении сельского населения, терпящего убытки от них, не вносит. Резолюция 2-го Всероссийского Съезда (под № 16) свое пожелание о допущении отдельных лиц к истреблению волков в дачах казны, удела и проч. почему-то не распространяет на медведей; резолюция под № 32 устанавливает закрытые для охоты сроки для всех видов хищных зверей, перечисленных в резолюции под № 40, а именно: волки, тигры, барсы (ирбисы) и леопарды, причем ловля этих зверей в капканы, ямы и проч. не допускается. Согласно резолюции Съезда под № 41 истребление медведей с 1 марта по 1 сентября может быть допускаемо с разрешения Комитетов по делам охоты «разными мерами, кроме общеопасных (т.е. ям, капканов, отравы и проч. перечисленных в резолюции под № 40), кроме стрельбы и преследования собаками». Стало быть, по точному и буквальному смыслу этой резолюции, если медведи начнут бесчинствовать над скотом, что в летнее время наблюдается повсеместно в лесных районах, то к истреблению их возможно приступить не ранее получения разрешения от Комитета, при условии не ловить их в капканы или ямы, не употреблять отравы, не стрелять из ружей и не преследовать собаками. Чем же тогда истреблять этих зверей? Одно остается средство в деревнях: пустить в ход вилы и топоры, но не будет ли такое средство также действительно, как и то, которое шутники рекомендуют для ловли птиц: сначала насыпать соли на хвост, а потом схватить. Даже людоеда-тигра не дозволяют поймать в яму или капкан! Если резолюции Охотничьего Съезда или статьи Законопроекта, подобные приведенным выше, в законодательном порядке будут санкционированы, то впредь можно предсказать, что в жизни они никогда не получат ни малейшего применения. Нападающие на скот медведи, разумеется, будут уничтожаться населением, как в «закрытое» для охоты время, так и в незакрытое, всеми доступными для него и наиболее действительными средствами, что делается и теперь, но чего. повторяю, совершенно недостаточно, пока частновладельческие, казенные, удельные, банковские и прочие категории леса будут оставаться зверинцами, охраняющими хищников. Будем, однако, надеяться, что новый охотничий закон, в окончательной редакции, признает медведя безусловно вредным хищником, не лишит населения права и в «закрытое» для охоты время защищаться от хищных зверей всеми способами и вместе с тем действительно, а не на бумаге, ограничит права собственности владельцев земель на этих зверей. Если же, наоборот, восторжествуют приведенные выше предположения ограничения права охоты, то было бы несправедливостью не возмещать потерпевшим причиненные зверями убытки. Между тем о массовых нападениях медведей на домашний скот очень яркую картину рисует известный, талантливый бытописатель нашего севера и путешественник К.Н.Носилов27 в своей корреспонденции с берегов р. Оби, из города Березка, Тобольской губ., отнесенной к числу губерний и областей, подлежащих действию только что цитированных резолюций Охотничьего Съезда под №№ 32, 40 и 41. К.Н.Носилов в своей заметке «Медвежье царство» пишет: «Вот уже более недели мы тихонько спускаемся по р. Оби, придерживаясь восточного, высокого, лесистого, дикого ее берега и, если что больше всего слышим, если о чем только разговариваем с местными жителями, то исключительно только почти о медведях». «Медведь одолел» - говорят одни; «страшно ныне много черного зверя» - говорят другие; «житья нет от него» - жалуются третьи, и при этом их рассказы про «черного зверя», как они называют здесь медведя, и даже «его», не желая всуе призывать имя остяцкого28 божества, иллюстрируются такими подробностями, такими ранами, такими описаниями встреч и схваток, что становится жутко слушать. Одни уверяют, что приход медведя к берегам р. Оби ныне объясняется наводнением; другие объясняют это прошлогодними лесными пожарами, которые выжили этого зверя и заставили его направиться несколько западнее; третьи просто говорят, что это обычное явление, повторяющееся почти каж-
28 Остяки - прежнее название коренного населения Ханты-Мансийского
128 5 Зак. 2616 129 дый десяток лет, когда «черный зверь» как-то приливает к реке Оби и появляется в большом количестве. Во всяком случае, наличность медведя в большом количестве ныне отмечена на громадном протяжении - от устья р. Иртыша далеко за гор. Березов, на расстоянии чуть не тысячи верст. Особенно ощутительно его появление для скотоводства. Благодаря страшному небывалому наводнению при разливе р. Оби на 30-40 и даже 50 верст, на лугах-островах, где обычно пасется здесь скот в летнее время, нет возможности его держать и приходится выпускать на лесистый левый возвышенный берег; берег этот даже не обрублен вблизи самых селений, почему кругом селений нет ни выгона, ни чистого места, и лошадь и рогатый скот должны волей-неволей идти искать себе пищу в темном, часто непроходимом, чисто таежном, сибирском лесу, где разумеется, и в обычное время медведь далеко не редкость. А раз, если хотя одна домашняя скотина попала ему на зубы, - он уже не отходит от селения, прикормившись столь лакомой пищей. На запах падали являются другие медведи, бродящие в этом лесу, и в результате нашествие медведей. Тем более, когда наводнение, как нынешнее, продолжается целые месяцы и весь почти домашний скот жителей исключительно на этом восточном берегу, где главным образом сосредоточены селения русского и остяцкого населения этого края. Местами жители еще прикармливают свой скот «талом» -ветками и листьями ивняка; но не всюду и этот способ прокормления доступен человеку: р. Обь ниже р. Иртыша залила давно все острова и луговые свои пространства: северные ветры, громадные волнения часто не позволяют жителям отправляться в лодках за этим «талом», самый способ кормления крайне опасен для скота, так как в желудках их находят целые палочки «тала», что неминуемо ведет к смерти скота, и поэтому волей-неволей приходится выпускать домашний скот в темный лес, в надежде, что он не будет зарезан медведем. Но оказывается, что эти надежды очень плохи: медведи истребляют скот самым ужасным образом, и в некоторых местах навели такую панику на жителей, что они уже начали резать домашний скот, тем более, что с продолжением наводнения мало надежды на запасы сена. Мы стояли несколько дней из-за погоды в с. Кондинском; селение это довольно значительное на р. Оби; скот, благодаря наводнению у него, весь пасется в лесу, и мы слышали каждый
день жалобы, что «медведь зарезал и сегодня корову». «Зарезал» не там, где-нибудь далеко в лесу, а под самым селением, всего в версте, самое большее в полутора верстах от домов. «Что же вы не идете его бить?» спрашиваем охотников. Но промышленники, сверх нашего ожидания, отнекиваются от этой, кажется, выгодной, удобной охоты. Оказывается, что у них нет достаточно хороших ружей, так как все ружья магазинные, патронные, за исключением никуда негодной берданки, исключены из продажи, а частью чуть ли даже не отобраны, а идти на таких зверей, да еще разгуливающих целыми семействами, с пищалью, с кремневым или пистонным курком - крайне опасно. «Будет с нас, довольно», - говорят такие промышленники, - «бывали мы с этими ружьями под медведями, более не хочется - спина болит, вот у товарища рука прокушена, вон у Игнатки - давно не поднимается другая», и в доказательство показывают шрамы свои и рассказывают такие случаи, после которых как-то неловко делается идти в лес даже и храброму охотнику, с хорошим верным ружьем. Затем нет собак на медведя, которых здесь очень мало, и стоят они очень дорого, и нет возможности завести, так как если появляется собака такая где-нибудь в селении, то спрос на нее чуть не за тысячу верст из этого лесного края. А без хорошей собаки здесь не ходят на медведя промышленники, добывая его только случайно, - бывая на охоте за белкой. Получается какой-то заколдованный круг: медведь ежедневно давит скотину, а охотники даже не пробуют найти ее, поискать в лесу, боясь высунуть нос дальше селения! В с. Малый Атлым нас убедительно просили, как охотников с хорошими ружьями, побить хоть немного медведей. Приезжаем в с. Кондинское - просьб еще больше. Чуть не целая депутация с просьбой избавить от медведей, потому что они «зарезали» уже 6 коров и самых при этом лучших. Мы мобили-зировались; я выдал оба свои штуцера-экспресса, но охота была крайне неудачной: медведя живо нашли, стреляли в него пулею, но когда он поднялся на дыбы, как бы удивившись и рассматривая, кто его осмелился беспокоить в его лесу, один охотник так перетрусил, что крикнул на него, замахнувшись ружьем, и он показал охотникам только спину. Оказалось, действительно, коров зарезано уже довольно, где валяется только рогатая голова, где ноги, 4 коровы свалены в одну кучу, вероятно для склада, и всюду столько следов медведей, что можно с
130 131 уверенностью сказать, что медведи опустошат это селение к осени, если скот не запрут жители в своих стойках. Медведи прямо бродят днем и ночью, не стесняясь, около селения; их видели днем за речкой против хлебных амбаров, и каждую ночь слышен лай собак на них, которые, пробираясь к падали голодные, встречают там мохнатого караульщика. Предприняты были еще две вылазки, теперь с собаками; но собаки не пошли с незнакомыми охотниками, несмотря на самые свежие медвежьи следы. Так мы и покинули это село Кондинское, предоставив его медведям! И это еще около селения. Между тем есть, нам указывали, такие речки и мыски на р. Оби, куда даже не советовали приставать не только ночью на ночевку, но даже днем, чтобы сварить себе чаю. «Боже вас упаси там остановиться заехать, -медведей там пропасть, так и ходят на виду, как скотинушка! Не вы будете скрадывать его, а он вас живо скрадет и подцепит!» Это - уже какое-то царство медведей, куда не смеют показаться даже здешние, опытные, бывалые в его когтях, промышленники и предупреждают об этом другого человека. - Да что они там делают? - спрашиваю я одного промыш - Купаются, - отвечает. Жарко теперь, комары. Нет ему от Вероятно его привлекает на берег р. Оби и притоков еще и другое: спасаясь от комаров, тоже заходят в воду лоси и олени, скрасть их в это время медведю очень легко, и он сходится к воде в значительном количестве, пользуясь таким обстоятельством и обижая вместе с тем и человека. Все это, разумеется, крайне печально и следовало бы сделать исключение для местных жителей - разрешить им приобретение и ввоз магазинных, патронных ружей, вместе с тем, разрешить им пользоваться в таких случаях нашествия медведей и стрихнинны-ми29 пилюлями в стеклянных, безопасных оболочках. Это единственное средство избавиться от медведей в этом медвежьем крае!
Каждому охотнику известно, каким целебным средством для его души и тела служит охота, какие нравственные и духовные элементы в ней заключаются. Но ни одна охота у нас на Руси не требует такой затраты, такого напряжения физических и моральных сил, как охота на медведя. Эта охота более, чем всякая другая закаляет тело охотника, изощряет его чувства, вырабатывает выносливость, находчивость, приучает побеждать препятствия. Эпитет «злая забава» к ней применим менее других. Об охоте на медведей существует у нас настолько обширная литература, что начинающий охотник может найти в ней для себя все необходимые сведения и наставления, но в числе их и такие, которые скажут ему, что вполне успешно он научится применять их к делу только после достаточной практики личного опыта. Несомненно, что только на практике охотник приобретает те качества, вырабатывает для себя те правила и приемы, ту сноровку, которые потом сопровождают его успех, но несомненно также и то, что пока опыт приобретается, за неопытность можно поплатиться; что и самый опытный и бывалый охотник не гарантирован от случайностей, промахов и ошибок, что никакие советы и наставления не в состоянии предусмотреть тех разнообразных положений и казусов, которым охотник подвергается в действительности. Следовательно, желающему с успехом подвизаться на поприще медвежьей охоты, не бесполезно, помимо руководящих правил, ознакомиться еще и с практикой других, материалом для чего могут служить всякие описания охот, характера и образа жизни медведя, лишь бы они были правдивы. Вполне успешные охоты на медведей, как известно, кроме знания дела, требуют еще умелой стрельбы пулею. Под умелою стрельбою следует подразумевать привычку в любой момент автоматически точно, навскидку, сделать верный выстрел по убойному месту зверя. Необходимость в такой быстрой стрельбе представляется в тех случаях, когда медведь, или часть его, показывается на глаза стрелка между закрытиями лишь на мгновение, что встречается в действительности при всех видах охоты на него гораздо чаще, чем, казалось бы, возможно было ожидать от такого по виду неуклюжего и тяжелого зверя. Убойными местами у последнего служат головной мозг и сердце: только поражение пулею первого из этих органов, как известно, убивает медведя наповал, а все остальные, если
132 133 спинной хребет не перебить, не препятствуют медведю или тотчас же скрыться, или броситься на стрелка. Выбор того или другого убойного места в момент выстрела всецело зависит от положения зверя, расстояния, боя ружья, искусства стрелка, конструкции пули, обстановки и проч. На близких расстояниях, при неподвижном положении зверя, при встречном или боковом движении его, выгоднее стрелять в лоб или за ухо с таким расчетом, чтобы второй выстрел в лоб в случае нападения медведя возможно было успеть повторить хотя бы в упор. Представляются случаи, когда первый выстрел, а вместе с тем и последний, возможно сделать только в упор, почти уперев стволы в голову зверя. При очень быстром боковом движении зверя или в полуугонном в чаще, где пуля может отклониться, или, когда в момент выстрела виден один бок зверя, и во всех остальных случаях, когда у охотника является неуверенность попасть в середину лба или за ухо, - следует стрелять под лопатку. Очень нередко приходится стрелять медведя куда попало, по клочкам мелькающий между закрытиями шерсти, на всяком расстоянии и даже в направлении осыпаемого медведем при движении снега, лишь бы попасть, не упустить без выстрела, сбавить ему ход, что облегчит дальнейшее преследование. Учесть все обстоятельства и быстро сообразить когда, куда и как направить выстрел - может, разумеется, лишь сам охотник в каждом отдельном случае. Неизменным остается лишь одно неукоснительное и всегда исполняемое опытными медвежатниками правило при нападении медведя, которое накоротке бывает стремительно («и ахнуть не успел, как на него медведь насел») - последним выстрелом поражать середину лба, не забывая при этом, что лоб хотя и широк у «мишки», но помещение, занимаемое мозгом, весьма незначительно и что лобные и теменные пазухи у старого медведя имеют 2 дюйма толщины. Вполне благополучно медведь уходит чаще всего из-под носа или такого охотника, который не владеет выстрелами навскидку, или у слишком благоразумного, выжидающего случай стрелять только наверняка и не повторяющего выстрела после первого неудачного, пока не переменит стреляной гильзы. Стрельба, если не всегда навскидку, то стрельба скорая, на охоте имеет весьма широкое применение во всех случаях, когда появление целей ограничено временем, почему предварительная практика стрельбы по движущимся целям необходима. Приемы стрельбы по неподвижным и движущимся целям настолько различны между собою, что первоклассные стрелки по первым оказываются никуда негодными по вторым. Чтобы сделать выстрелы навскидку, стрелку необходимо прикладку, прицеливание и спуск курка, а следовательно и выстрел, произвести одновременно, соединив в одно действие. Следовательно, правильная прицельная линия должна быть взята в момент приложения приклада к плечу, и сопровождается мгновенным нажатием на спуск. Выстрел, навскидку, в охотничьем смысле этого слова, настолько мгновенный, настолько неожиданный для самого стреляющего в момент его совмещения, что вскидка ружья и направление его в точку прицела производятся, как бы бессознательно, рефлективно, в силу привычки. Как охотник произвел такой выстрел, он и сам не знает: увидел - убил. Зрение и все внимание его было сосредоточено только на одной точке прицела, положением которой определяется момент спуска курка и направление выстрела. Если же в памяти стрелка остается сознание, что он кроме прицельной точки (птицы или убойного места зверя) видел еще мушку в прорези прицела или прицельную планку своего ружья, то это уже не будет выстрелом навскидку. В последнем случае стрелок имел время судить о правильности прицела; следовательно, в момент спуска курка имел возможность знать вперед, достигнет цели или нет выпущенный им снаряд, тогда как при выстреле навскидку результат всегда является гадательным. Такая гадательного характера стрельба навскидку дает, однако, великолепные результаты. Если любители исключительно прицельной стрельбы, стрельбы наверняка, попробуют применить свое умение к делу: в чащах по строгой и верткой птице, на тяге вальдшнепов, стоя на узком просеке или лесной дороге, пулею по мелькающему в зарослях зверю, по готовому через мгновенье скрыться за сугробом снега проворному русаку и проч., - то поймут, что здесь без уменья стрелять навскидку никак не обойтись. Во всех таких случаях стрелок с прицела или упражняется в прикладке без выстрела по дичи или провожает ее запоздалыми салютами, что так часто и приходится наблюдать в действительности.
134 135
При выстреле навскидку между зрительным, слуховым, или шыми чувственными впечатлениями (импульсами) с одной стороны, и вызванными ими рефлективными действиями вскидка ружья и спуск курка) с другой, - проходит промежу-ток времени, неодинаковый у разных людей, в силу различи У них быстроты превращения того или иного чувственного впе-чатления в движение, быстроты нервного раздражения, почему один стреляет вовремя, а другой опаздывает. Стрельба влет из-под собаки может послужить превосходно подготовкой, одним из лучших средств овладеть искусством стлрельбы ружьем по движущимся целям, так как никакая дру-гая стрельба не приучает охотника к такой быстрой и верной вскидке ружья по направлению к цели и к такому разнообра зию положений и неожиданностей. Не раз приходилось быть свидетелем, когда отличные стрел-кипо птице, почти никогда не стрелявшие пулею, сделал этим снарядом великолепные выстрелы по бегущему зверю, и, наоборот, первоклассные стрелки из нарезного оружия по не подвижным целям провожали на тех же расстояниях такого же зверя самыми постыдными пуделями. Сделать верный выстре по бегущему зверю пулею накоротке, т.е. не далее 50 шаго, всегда легче из более привычного для охотника дробовика, чем из винтовки или штуцера, требующих более тщательного пр цела, почему первому на медвежьих охотах я отдавал предпочтение. Однажды в последних числах февраля месяца мне пришл купить медвежью берлогу за довольно высокую цену с обяза-гельством уплаты денег и в том случае, если зверь не будет убит, но окажется на месте. Так как в свою очередь проводник обязывался повести «в аккурат» к самой берлоге, расположенной, по его словам, вблизи очень приметной, высокой сушины и в удобном для стрельбы месте, то риска в такой покупке, по-видимому, не представлялось. На деле же в поисках за это приметной сушиной, оказавшейся давно поваленной ветром, нам пришлось блуждать на лыжах более часа по самым непролазным зарослям, беспрестанно то поднимаясь с большим трудом на груды лома, заваленные снегом, то сползая с них в настоящие ямы. Лишь только мой проводник выбрался из такой, по счету, быть может, двадцатой ямы, а я в нее опустился, как слева от себя, под нижними ветвями ели, своими концами как бы вросшими в снег, у самых своих ног, услышал вяканье новорожденных медвежат. С противоположной стороны к этой ели вплотную примыкала чаща густого ельника, сплошь завешенная глыбами снега. Рассмотреть зверей через ветви, покрытые снегом, не представлялось возможным, равно как и раздвинуть их концами стволов, из опасения, если не отдать оружие в лапы врагу, то закрыть прицельную планку осыпавшимся снегом. Отодвинуться вправо от слишком близкого соседства с берлогою было некуда, а выбираться из ямы вперед или назад - рискованно в виду полной вероятности пропустить удобный момент для выстрела в то время, когда не умолкавший плач медвежат, лишенных теплых объятий своей мамаши, указывал, что последняя была уже готова или к бегству, или к нападению. Овладеть трофеем при данной обстановке, казалось, могли быть шансы только в последнем случае, хотя я боялся быть опрокинутым первым прыжком зверя ранее своего выстрела, но робкая медведица предпочла отступление и ушла в противоположную от меня сторону, незамеченная под защитою укрывавшей ее чащи. Дробовику однако достаточно было кусочка мелькнувшей далее спины зверя, чтобы пронизать ее пулею навылет, и в таком случае только выстрел навскидку мог выручить. Вообще на медвежьих охотах часто и очень часто один выстрел навскидку решает все дело, успех дня и спасает репутацию охотника.
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 108; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.21.164.210 (0.1 с.) |
 24 Десятина - старая мера площади, равная 1,09 га. - Ред.
24 Десятина - старая мера площади, равная 1,09 га. - Ред. 26 Он же непременный член Императорского Общества охоты и постоянный член Особой Комиссии под председательством Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича. - Авт.
26 Он же непременный член Императорского Общества охоты и постоянный член Особой Комиссии под председательством Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича. - Авт. 27 «Новое время», 1914, № 13830. - Авт.
27 «Новое время», 1914, № 13830. - Авт. 29 Стрихнин - сильнодействующий яд, получаемый из южноамериканского растения чилибухи. - Ред.
29 Стрихнин - сильнодействующий яд, получаемый из южноамериканского растения чилибухи. - Ред. Охотник, достигший большого совершенства в стрельбе на -вс кидку пулею, является настоящим мастером своего дела Искусство это дается однако не каждому и кроме практи требует еще особых способностей.
Охотник, достигший большого совершенства в стрельбе на -вс кидку пулею, является настоящим мастером своего дела Искусство это дается однако не каждому и кроме практи требует еще особых способностей.