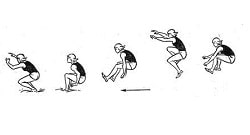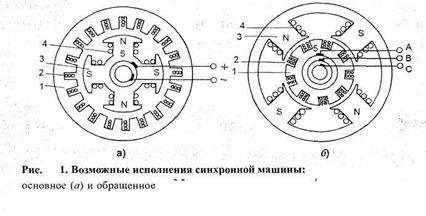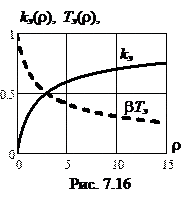Изобретения 16-го века.
В течение 16-го века сформировался облик парусного корабля в целом сохранившийся до середины 19-го века. Корабли значительно увеличились в размерах, если для 15-го века редкостью были суда более 200 тонн, то к концу 16-го века появились единичные гиганты достигающие 2000 тонн, а корабли водоизмещением 700-800 тонн перестали быть редкостью. С начала 16-го века в европейском судостроении все чаще стали применяться косые паруса, сначала в чистом виде, как это делалось в Азии, но к концу века распространилось смешанное парусное вооружение. Совершенствовалась артиллерия, - бомбарды 15-го и кулеврины начала 16-го веков все еще мало подходили для вооружения кораблей, но к концу 16-го века проблемы связанные с отливкой были в значительной степени решены и появилась морская пушка привычного вида. Около 1500-го года были изобретены пушечные порты, пушки стало возможно размещать в несколько ярусов, причем верхняя палуба освободилась от них, что положительно сказалось на остойчивости судна. Борта судна стали заваливать внутрь, - так пушки верхних ярусов оказывались ближе к оси симметрии корабля. Наконец, в 16-м веке во многих европейских странах появились регулярные военные флоты.
Все эти нововведения тяготеют к началу 16-го века, но, учитывая время необходимое для внедрения, распространились только к его концу. Опять же и судостроителям надо было приобрести опыт, ибо попервоначалу корабли нового типа имели раздражающую привычку опрокидываться сразу при сходе со стапелей.
Морская артиллерия.
Военный корабль 17-го 18-го веков к названию почти обязательно имел приставку "пушечный", - 20-ти пушечный, 40-ка пушечный и так далее. Галеры 16-го века также несли пушки, но о них даже не упоминалось, - артиллерия на галерах не играла особой роли. Однако, корабли 17-го века создавались уже в расчете главным образом на артиллерийский бой. Пушки стали их основным грузом. Если галера имела не более 1-го фунта огневой мощи на 3 тонны водоизмещения, а джонка или любой другой корабль артиллерия которого располагалась только на верхней палубе - 1 фунт на 2.5 тонны, то корабль с орудиями в портах - 1 фунт всего на 0.66 - 2 тонны. Что соответствовало приблизительно одной пушке на 20 тонн. Но это не точный метод расчета, так как пушки могли быть и 12-ти фунтовые, и 24-х фунтовые и 48-ми и даже 96 фунтовые. Плюс еще фальконеты, которые могли считаться или не считаться. Плюс на кораблях быстроходных загруженность артиллерией была меньше. Обычно, на одном корабле стояли пушки нескольких калибров. Но когда говорят о морской пушке 17-го 18-го века, то почти наверняка имеется в виду 24-х фунтовое орудие.
Морские пушки имели тогда довольно короткий ствол - 8-12 калибров. В сухопутной терминологии их следовало бы называть единорогами. Ограничивали длину ствола необходимость полностью втягивать его внутрь судна для заряжения, а так же стремление облегчить орудие. В 18-м веке морские пушки получили кремневый замок. Сухопутные и в середине 19-го не имели замков.
Пушки располагались частично на верхней открытой палубе (фальконеты и 12-ти фунтовки), частично на носу и корме (по 2, реже по 4 орудия калибром 12-24 фунта), но большей частью на нижних палубах. Причем на самом нижнем этаже устанавливались орудия калибра, допустим, 48 фунтов, выше - 24 фунта. У линкоров конца 18-го века на нижней палубе стояли пушки калибром 60-96 фунтов.
Фальконеты калибром 1-4 фунта (редко 6 фунтов) устанавливались на надстройках. Они предназначались для обстрела вражеской палубы предпочтительно сверху. Из фальконетов также можно было поражать шлюпки и прочие малоразмерные цели. Стреляли фальконеты почти исключительно картечью не далее 150 метров. Весил фальконет с тумбой от 100 до 600 килограммов.
Существовали, естественно, пушки других калибров - 8, 18, 36 фунтов, но они были менее распространены.
Морские пушки имели лафеты двух типов. Фальконеты помещались на поворотных станках - тумбах. Для заряжения фальконет просто поворачивался на 180 градусов. Пушки крупных калибров устанавливались на массивном лафете с маленькими колесиками. Колесики эти двигались по специальным пазам в палубе, лафет же несколькими толстыми тросами крепился к борту. Смысл этих устройств заключался в том, что перед выстрелом дульный срез орудия должен был несколько выступать за внешнюю часть борта, - иначе ударная волна отразилась бы от краев порта и ушла внутрь, - если бы кто и выжил, то оглох бы наверняка. Для заряжения же пушку надо было втянуть внутрь, причем на достаточную глубину, чтобы можно было развернуться с шомполом. При таком устройстве пушка после выстрела возвращалась в положение для заряжения нерукотворно, - энергией отдачи. Правда, потом расчет должен был вручную с помощью рычагов выкатить ее в боевое положение. Пушка же была в 120-180 раз массивнее своего снаряда. Двенадцатифунтовка весила около тонны и трое человек сравнительно легко ее перекатывали, но 96-фунтовая корронада тянула на 5 тонн, - сдвинуть ее могли только 10-12 человек.
Проблема была, однако, в том, что на корабле не имелось 10 человек для укомплектования расчета каждой пушки. А если бы и были, то где бы они развернулись в тесном каземате? На самом деле, расчет 12 фунтовой пушки составлял 3 человека, а 24-х фунтовой - 4 человека. Причем, один расчет приходился на 2 орудия, - корабль мог вести бой только одним бортом. Для заряжения 48-ми фунтовок малыми силами практиковался такой метод: пушка привязывалась канатами к борту почти наглухо, но с верхней палубы на страховочном конце спускался смертник с шомполом. И заряжал ее снаружи. Ядра и порох подавали товарищи изнутри, - высовываясь через порт, - с 20-ти или 40-ка килограммовым снарядом в руках. Перед залпом заряжающих втаскивали обратно на верхнюю палубу. Для облегчения таких операций ниже уровня портов крупнокалиберных пушек располагался карниз, на котором заряжающий и стоял. Все это, конечно, хорошо было - в теории. Надо думать, что при таком способе заряжения половина зарядов отправлялась прямиком за борт.
По этим причинам морские пушки стреляли значительно реже полевых. Их обслуживало примерно вдвое меньше народу и работали морские артиллеристы в очень неудобных условиях. Обычная пушка стреляла не чаще, чем раз в три минуты. Двойные и короннады имели такую же скорострельность если их заряжали снаружи, но если их втаскивали внутрь, то один выстрел производился за 5-10 минут. Фальконеты, однако, стреляли часто - 4 выстрела в минуту.
Несколько зарядов всегда было сложено на палубе возле пушки в специальной корзине. Но, когда они кончались, боеприпасы надо было подавать живым конвейером из погребов. На это требовалось еще почти столько же народу, сколько и на обслуживание самих пушек. Боекомплект составлял как и у сухопутных орудий - 100-200 выстрелов. Тратили морские пушки, конечно, меньше, но возить снаряды было проще, а если они кончались, труднее было пополнить запас.
Механизма горизонтальной наводки морские пушки той эпохи обычно не имели. Она осуществлялась поворотом корпуса судна. На борт, однако, имелась одна, реже две пушки, расположенных на верхней палубе, которые усилиями многих людей можно было разворачивать. Они использовались для прицельной стрельбы, но поскольку таковая из гладких короткоствольных орудий заведомо не имела смысла, то их стрельбу скорее следует назвать одиночной. Ну, типа, стоит фрегат на якоре, мимо прет какая-нибудь шхуна. Прет, допустим, не туда, куда, с точки зрения фрегата, полагается. Не гасить же ее сразу бортовым залпом (да и с якоря надо сниматься). Значит, из одной пушки делается предупредительный выстрел. А разворачивается пушка затем, чтобы шхуна знала, что фрегат именно ее имеет в виду, а не так, - вообще, - от избытка боеприпасов.
В принципе, поворотную пушку можно было приспособить и для сравнительно точной стрельбы, как это делалось с орудиями сухопутных демонтир батарей, - взять ствол подлиннее и попрямее, выбрать ядра особенно круглой формы, тщательно отмерить заряды, - и в ближнем бою попытаться отстрелить из нее бушприт вражеского судна или попасть по капитанскому мостику. Но когда стрельба велась с одного движущегося судна по другому движущемуся судну, причем оба раскачивались на волне, такой трюк был совершенно немыслим. Поразить наиболее уязвимые и важные части вражеского корабля можно было только случайно.
Механизм вертикальной наводки присутствовал, но угол возвышения устанавливался исходя из стратегических соображений. Например, если капитан собирался стрелять картечью или цепями по такелажу вражеского корабля, то угол устанавливался большой. Если собирался стрелять рикошетами по вражеской ватерлинии, - то маленький, может быть даже со снижением. Наводчик был один на судно, только на крупных кораблях 18-го века было уже по несколько артиллерийских офицеров. Собственно изменение угла наклона ствола производилось усилиями расчета, но только под его руководством, так что перенацеливание пушек одного борта занимало 15-30 минут. Сложность состояла в том, что все орудия, а они были разных калибров, должны были оказаться нацелены в одну точку. А ведь даже для одного калибра стандартизация баллистических свойств орудий была весьма условной.
В бою капитан корабля отдавал приказ зарядить и установить орудия соответствующим образом и далее маневрировал направлением движения, пока цель не удавалось поймать в перекрестие воображаемого прицела. В этот момент канонирам подавался сигнал голосом или дудкой и они поджигали порох на полках орудий.
Эффективная дальность стрельбы морских орудий не превышала 300 метров. Снаряды летели в несколько раз дальше (до 1500 метров, что иногда использовалось для обстрела береговых целей), но уже на 300-х метрах боковое отклонение достигало 15 метров. Плюс еще оказывали влияние ветер, качка, неточность весов зарядов, различная степень обтюрации в стволах. Стрелять по такой цели как корабль далее 300 метров не имело смысла, тем более, что и кинетическая энергия ядер падала с расстоянием. Она и так была недостаточна, - фрегат 17-го века еще можно было раздолбать 24-х фунтовыми ядрами, но линкор 18-го века оказывался неуязвим и для 48-ми фунтовых. Во всяком случае, корпус из метровой толщины слоя мореного дуба ими не разрушался. Другое дело, что ядра могли влетать в порты и рикошетируя внутри производить ужасные опустошения. Могли ими быть разрушены надстройки, сбиты мачты, но корабль оставался на плаву.
Для решения этой проблемы в конце 18-го века в Англии на вооружение линейных кораблей стали поступать 60-108 фунтовые бомбические пушки, - корронады, калибр которых достигал 280 миллиметров, а вес 4.5 тонн. Дальность стрельбы осталась прежней, да и даже трех пудовые бомбы бортов линкора того времени не пробивали, однако, они застревали в них и, взрываясь, производили большие разрушения, - даже могли вызвать пожар.
В 16-м - 18-м веках обычным снарядом морской артиллерии оставалось чугунное ядро. В 18-м веке ядро было заключено в унитарный дульный патрон - "картуз", типа бумажного патрона к ружью. Для бомбических пушек, как ясно из названия, употреблялись бомбы. Зажигательные снаряды - брандскугели - применяемые полевой артиллерией распространения не имели, так как специально хранить на борту судна что-либо зажигательное желающих было мало. Использовался другой зажигательный снаряд - "каленое ядро" - ядро раскаленное до белизны в специальной жаровне. Однако такие жаровни имелись на редких кораблях, и заряжать пушку, держа такое ядро щипцами, было затруднительно в условиях морского боя. Собственно, каленые ядра использовались береговой артиллерией, которая так же административно относилась к флоту. Под каленое ядро приходилось забивать очень плотный негорючий пыж.
Картечь употреблялась мало. Главным образом для обстрела вражеского такелажа. Ну, и для фальконетов. Для разрушения такелажа применялся и другой снаряд, - гирлянда из двух или трех скованных цепью ядер. Под такой снаряд можно было положить совсем немного пороха, - летел он недалеко, косо и криво. Но на 100-150 метров был пригоден. Цепями начали стрелять в 18-м веке, когда такелажные тросы стали уже настолько толстыми, что пули не разрубали их. Надо еще учесть, что веревка делалась из пеньки или манилы, употреблявшихся так же и для изготовления бронежилетов.
Стрельба сыром практиковалась редко, - только в случае если снаряды всех прочих типов заканчивались, - эффективность ее была незначительной.
Характерно, что кораблестроители стремились установить на судно максимальное количество пушек даже в ущерб их мощности. То есть 40 12-ти фунтовых считались предпочтительнее 20 24-х фунтовых орудий. Не смотря на то, что скорострельность различалась мало, а эффективность более тяжелых ядер была большей. Дело было в том, что даже на 300 метров корабль накрывал цель залпом. По закону больших чисел, часть ядер попадала в цель. Но число должно было быть большим. Если целью был сверхпрочный корпус линкора, то разницы между 12-ти и 24-х фунтовыми ядрами почти не было, но 12-ти фунтовых было больше, соответственно, выше была вероятность, что сколько-то из них влетят внутрь через порты, угодят в капитанский мостик, бушприт и так далее. Если обстреливался небольшой корабль, то одно из большего количества более мелких ядер скорее могло поразить его. То есть разница между 12-ти и 24-х фунтовым вооружением роли обычно не играла. Кроме того, сравнительно легкие пушки были удобнее по габаритам, не продавливали палуб, не вызывали крена на сравнительно небольших кораблях при перемещении.
Ради экзотики можно упомянуть о вооружении кораблей бомбардами, кулевринами, осадными пушками, единорогами и мортирами.
Символ Оттоманского величия 16-го века - гигантские бомбарды - украшали не только Дарданельские укрепления (не вполне, кстати, бесполезно украшали, - в начале 19-го века они убедительно метали каменные глыбы по английским линкорам, - и в начале 20-го тоже метали, но уже - неубедительно), но и использовались в качестве морских орудий. Трудно сказать, зачем турки установили их на нижние палубы нескольких линейных кораблей, - толи за неимением лучшего, толи на страх агрессору. Вес этих 400-миллиметровых, пуляющихся 80-ти килограммовыми мраморными ядрами орудий достигал 7 тонн, - рекорд того периода. Дульная энергия этих монстров была достаточна чтобы проделать в борту линейного корабля того времени (начало 18-го века) основательную дыру (с дистанции 150-200 метров). Но заряжение могло занимать до часа. Если турецкий линейный корабль того времени (не более 1800 тонн) вооружался, например, 16-ю такими орудиями, то остальная артиллерия могла быть представлена только четырьмя десятками 12-ти фунтовок.
Кулеврины составляли основную массу пушек 16-го века. В 17-м их еще было очень много на вооружении крепостей. Для вооружения кораблей они были очень не удобны, так как, например, иная 4-х фунтовая кулеврина имела ствол длиной 4 метра (почти вдвое длиннее ствола 48-ми фунтовки) и весила, почти как 12-ти фунтовая пушка. Правда и стреляла вчетверо точнее, - но что могло сделать крохотное ядро? Тем не менее на вооружение кораблей кулеврины в 18-м веке попадали, - главным образом тех кораблей, которые делались в колониях для местных нужд, а так же торговых и пиратских кораблей. Когда приходилось ставить такую пушку, которая имелась в наличии.
Иногда кулеврина на небольшом судне могла гнездиться в носовом трюме, - так, что в форштевне, ниже бушприта для нее проделывался небольшой порт. Для заряжения, вероятно, отчаянный пират с 4-х метровым шомполом в зубах подползал по бушприту.
Иногда задачей флота оказывалось разрушение особо прочных крепостных сооружений на берегу. Дульная энергия штатных 24-х фунтовок была для этого недостаточна. Да и ядра двойных пушек не давали удовлетворительного эффекта, - если, к примеру, стену прикрывала насыпь, то они не слишком вредили ей. Ядро же 24-х фунтовой осадной пушки имело в полтора-два раза большую энергию, чем ядро двойной морской пушки, кроме того ядро осадной пушки имело значительную пробивную силу и, попадая в насыпь даже под небольшим углом, глубоко зарывалось и выбрасывало массы земли. Отсюда вытекало, что корабли необходимо оснастить и осадными пушками. Но осадная пушка весом 5 тонн с 4-х метровым стволом не помещалась на нижние палубы даже линейных кораблей. Кроме того, эффективен ее огонь был с дистанции 150-300 метров (причем один выстрел со 150 метров заменял четыре с 300 метров), а линейный корабль с большой осадкой едва ли мог подойти к цели на такую дистанцию. Но корабль с небольшой осадкой будет иметь и небольшое водоизмещение, а в этом случае не прокатит обычный принцип заряжения, - громадные пушки, отлетев к противоположенному борту, создадут крен на него и возвращать в боевое положение их придется толкая вверх, - что явно превышало возможности экипажа разумной численности.
Приходилось сооружать специальный корабль - бомбардирский, с небольшой осадкой, с одной открытой, но чрезвычайно прочной палубой. Пушки располагались в центральной части корабля по оси палубы в шахматном порядке, - половина стволами на один борт, половина на другой. Между стволами и бортом оставалось пространство достаточное для работы заряжающих. Бомбардирский корабль нес 8-10 осадных пушек, по две 12-ти фунтовки смотрели вперед и назад, кроме этого на борту было 2-4 тяжелых (двухпудовых) мортиры, стрелявших на 700 метров, - прочная палуба выдерживала отдачу. Это все, правда, касается бомбардирского судна специальной постройки, что было редкостью. Обычно такие корабли сочиняли во время осады из подручных материалов. Это мог быть и плот. Это могло быть вообще все, что угодно. Чаще всего бомбардирское судно представляло собой случайную посудину с небольшой осадкой на которую ставились случайные сухопутные или морские пушки, с той только мыслью, чтобы обстрелять вражеские укрепления с неожиданного направления.
Во время Ливонской войны русские войска, прорвавшись к морю, соорудили два бомбардирских корабля. Они, собственно, и были первыми кораблями российского флота.
Мортиры устанавливались и на других кораблях. Небольшую, в полпуда, мортиру всегда можно было поставить на верхнюю палубу любого линейного корабля, - сама она весила не много. Проблема была в сокрушительной отдаче направленной вниз, - палуба могла не выдержать долгой стрельбы. Мортиры не имели применения в морском бою и использовались только для обстрела береговых целей.
На русских кораблях конца 18-го начала 19-го веков вместо карронад ставились тяжелые единороги, а они бывали до 72 фунтов мощностью. Но и такие единороги были слабее корронад. Русские легкие галеры "скампавеи" действовавшие на Балтике во время Северной войны иногда вооружались 3-6 фунтовыми полковыми пушками. Пушка же часто привязывалась к палубе прямо на колесном лафете, - в морском бою толку от нее было ноль, но она могла оказаться очень полезна в десантных операциях, для которых в основном скампавеи и использовались.
Парусные корабли.
В первой половине 16-го века появился корабль обладающий принципиально новыми свойствами и совершенно иным назначением, чем корабли существовавшие раньше. Корабль это предназначался для борьбы за господство на море путем уничтожения вражеских боевых кораблей в открытом море артиллерийским огнем и соединял значительную по тем временам автономность с сильнейшим вооружением. Существовавшие до этого момента гребные корабли могли господствовать разве что над узким проливом, да и то, если базировались в порту на берегу этого пролива, кроме того их мощь определялась численностью войск на борту, а артиллерийские корабли могли действовать независимо от пехоты. Нового типа корабли стали называться линейными - то есть основными (подобно "линейной пехоте", "линейным танкам" название "линейный корабль" не имеет касательства к выстраиванию в линию, - они если и строились, то как раз в колонну).
Первые линейные корабли, появившиеся на северных морях, а позже и на Средиземном море, были невелики - 500-800 тонн, что примерно соответствовало водоизмещению крупных транспортов того периода. Даже не крупнейших. Но крупнейшие транспорты строили для себя богатые купеческие компании, а линейные корабли заказывали небогатые еще в то время государства. Вооружались эти корабли 50-ю - 90 пушками, но это были не очень сильные пушки, - в основном 12-ти фунтовые, с небольшой примесью 24-х фунтовых и очень большой примесью мелкокалиберных пушек и кулеврин. Мореходность не выдерживала ни какой критики, - даже в 18-м веке корабли еще строились без чертежей (их заменял макет), а количество пушек рассчитывалось исходя из ширины судна измеренной шагами, - то есть варьировалось в зависимости от длины ног главного инженера верфи. Но это в 18-м, а в 16-м корреляция между шириной судна и весом орудий не была известна (тем более, что ее и нет). Проще говоря, корабли строили без теоретической базы, только на основе опыта, которого в 16-м, начале 17-го века еще почти не было. Но главная тенденция просматривалась ясно, - пушки в таком количестве не могли уже рассматриваться как вспомогательное вооружение, а чисто парусная конструкция указывала на стремление получить океанский корабль. Уже тогда для линкоров была характерна вооруженность на уровне 1.5 фунта на тонну водоизмещения.
Чем быстроходнее был корабль, тем меньше на нем могло быть пушек по отношению к водоизмещению, так как тем более весил двигатель - мачты. Мало того, что сами мачты с массой канатов и парусов весили изрядно, так они еще и смещали центр тяжести вверх, следовательно их приходилось уравновешивать, закладывая в трюм большее количество чугунного балласта.
Линейные корабли 16-го века еще имели недостаточно совершенное парусное вооружение для плавания в Средиземном море (особенно в восточной его части) и на Балтике. Шторм шутя выдул испанскую эскадру из Ла-Манша.
Уже в 16-м веке Испания, Англия и Франция вместе имели около 60-ти линейных кораблей, причем Испания более половины этого числа. В 17-м веке к этой тройке присоединились Швеция, Дания, Турция и Португалия.
К середине 17-го века линейные корабли существенно подросли, - иные уже до 1500 тонн. Количество пушек осталось прежним - 50-80 штук, но 12-ти фунтовые пушки остались только на носу, корме и верхней палубе, на прочих палубах размещались пушки по 24 и 48 фунтов. Соответственно, и корпус стал прочнее - выдерживал 24-х фунтовые снаряды.
В целом, 17-й век характеризуется низким уровнем противостояния на море. Англия почти на всем его протяжении не могла разобраться с внутренними неурядицами. Голландия предпочитала корабли небольшого размера, полагаясь больше на их количество и опыт экипажей. Могущественная в тот период Франция пыталась навязать Европе свою гегемонию войнами на суше, - море французов интересовало мало. Швеция безраздельно господствовала на Балтийском море и не претендовала на другие водоемы. Испания и Португалия были разорены и нередко оказывались в зависимости от Франции. Венеция и Генуя быстро превращались в третьестепенные государства. Средиземное же море было поделено, - западная часть отошла к Европе, восточная - к Турции. Ни одна из сторон не стремилась нарушить равновесия. Однако, Магриб оказался в европейской сфере влияния, - английские, французские и голландские эскадры в течение 17-го века покончили с пиратством. Величайшие морские державы 17-го века имели по 20-30 линкоров, остальные - единицы.
Турция также с конца 16-го века начала строить линейные корабли. Но они еще существенно отличались от европейских образцов. Особенно формой корпуса и парусным вооружением. Турецкие линейные корабли были существенно быстроходнее европейских (особенно это сказывалось в условиях Средиземноморья), несли 36 - 60 орудий калибра 12-24 фунта и были слабее бронированы, - только от 12-ти фунтовых ядер. Вооруженность составляла фунт на тонну. Водоизмещение составляло 750 -1100 тонн. В 18-м веке Турция стала существенно отставать в отношении технологий. Турецкие линкоры 18-го века напоминали европейские 17-го века.
В течение 18-го века рост размеров линейных кораблей продолжался непрерывно. К концу этого века линейные корабли достигли водоизмещения в 5000 тонн (предельного для деревянных кораблей), броня усилилась до невероятной степени - даже 96-ти фунтовые бомбы недостаточно вредили им, - а 12-ти фунтовые полупушки на них уже не употреблялись. Только 24-х фунтовые для верхней палубы, 48-ми - для двух средних и 96-ти фунтовые - для нижней. Количество пушек достигло 130. Были, правда, и меньшие линкоры на 60-80 орудий, водоизмещением около 2000 тонн. Они чаще ограничивались 48-ми фунтовым калибром, от него же и были защищены.
Невероятно возросло и количество линкоров. Линейные флоты имели Англия, Франция, Россия, Турция, Голландия, Швеция, Дания, Испания и Португалия. К середине 18-го века Англия захватила на море почти безраздельное господство. К концу века она располагала почти сотней линейных кораблей (включая и те, что не находились в активном использовании). Франция набирала 60-70, но они были слабее английских. Россия при Петре наштамповала 60 линейных кораблей, но они были сделаны в спешке, кое-как, - халтурно. По-богатому, только подготовка древесины - что бы она превратилась в броню - должна была занимать 30 лет (вообще-то, русские корабли и позже строились не из мореного дуба, а из лиственницы, она была тяжелой, сравнительно мягкой, но не гнила и служила в 10 раз дольше, чем дуб). Но уже одно только их количество вынудило Швецию (да и всю Европу) признать Балтийское море русским внутренним. К концу века численность линейного флота России даже уменьшилась, но корабли были подтянуты к европейским стандартам. Голландия, Швеция, Дания и Португалия имели по 10-20 кораблей, Испания - 30, Турция - тоже около того, но это уже были корабли не европейского уровня.
Уже тогда проявилось то свойство линейных кораблей, что создавались они более всего для числа, - чтоб были, а не для войны. Строить и содержать их было дорого, а укомплектовывать экипажем, всякого рода припасами и отправлять в походы - тем более. На этом и экономили, - не отправляли. Так что даже Англия использовала одновременно только небольшую часть своего линейного флота. Снаряжение для похода 20-30 линкоров было и для Англии задачей общенационального масштаба. Россия держала в боевой готовности всего несколько линкоров. Большинство линейных кораблей всю свою жизнь проводили в порту имея на борту лишь минимальный экипаж (способный при острой необходимости перегнать корабль в другой порт) и незаряженные пушки.
Следующим по рангу за линкором кораблем был фрегат, предназначенный для захвата водного пространства. С попутным уничтожением всего (кроме линкоров), что на этом пространстве имелось. Формально, фрегат был вспомогательным кораблем при линейном флоте, но, учитывая, что последний использовался крайне вяло, фрегаты оказывались самыми востребованными из судов того периода. Фрегаты, как позже и крейсера, можно было разделись на легкие и тяжелые, - хотя формально такой градации не проводилось. Тяжелый фрегат появился в 17-м веке, это было судно имеющее 32-40 пушек, считая фальконеты, и вытесняющее 600-900 тонн воды. Пушки были по 12-24 фунта, с преобладанием последних. Броня выдерживала 12-ти фунтовые ядра, вооруженность составляла фунт на 1.2-1.5 тонны, а скорость была большей, чем у линкора. Водоизмещение последних модификаций 18-го века достигло 1500 тонн, пушек было до 60-ти, но 48-ми фунтовых, обычно, не имелось.
Легкие фрегаты были распространены уже с 16-го века, а в 17-м составляли подавляющее большинство всех военных кораблей. Для их производства требовалось дерево существенно более низкого качества, чем для строительства тяжелых фрегатов. Лиственница и дуб считались стратегическими ресурсами, а сосны, пригодные для изготовления мачт в Европе и европейской части России были сочтены и взяты на учет. Брони легкие фрегаты не несли, - в том смысле, что их корпуса выдерживали удары волн и механические нагрузки, но на большее не претендовали, - толщина обшивки составляла 5-7 сантиметров. Количество пушек не превышало 30-ти и только на самых крупных фрегатах этого класса на нижней палубе стояли 4 24-х фунтовки, - даже не занимали весь этаж. Водоизмещение составляло 350-500 тонн.
В 17-м, начале 18-го веков легкие фрегаты был просто самыми дешевыми военными кораблями, кораблями, которых можно было наделать целую тучу и быстро. В том числе и путем переоборудования торговых судов. К середине 18-го века стали специально производиться подобные корабли, но с акцентом на максимальную скорость - корветы. Пушек на корветах было даже меньше от 10, до 20 (на 10-ти пушечных кораблях пушек на самом деле было 12-14, но те что смотрели на нос и на корму классифицировались как фальконеты). Водоизмещение составляло 250-450 тонн.
Количество фрегатов в 18-м веке было значительным. Англия имела их немногим более, чем линейных кораблей, но все равно получалось много. Страны с небольшими линейными флотами имели фрегатов в несколько раз больше, чем линкоров. Исключение составляла Россия, у нее один фрегат приходился на три линкора. Дело было в том, что фрегат предназначался для захвата пространства, а с ним (пространством) на Черном и Балтийском морях было туговато.
В самом низу иерархии находились шлюпы, - корабли предназначенные для несения дозорной службы, разведки, борьбы с пиратством и так далее. То есть, - не для борьбы с другими военными кораблями. Наименьшие из них представляли собой обычные шхуны тонн в 50-100 весом с несколькими орудиями менее 12-фунтов калибром. Наибольшие имели до 20 12-ти фунтовых пушек и водоизмещение до 350-400 тонн.
Шлюпов и других вспомогательных кораблей могло быть сколько угодно. Например, Голландия в середине 16-го века имела 6000 торговых кораблей большинство из которых было вооружено. Путем установки дополнительных орудий 300-400 из них могли быть превращены в легкие фрегаты. Остальные - в шлюпы. Другой вопрос, что торговый корабль приносил голландской казне прибыль, а фрегат или шлюп эту прибыль потребляли. Англия в тот период имела 600 торговых кораблей.
Сколько народу могло быть на этих кораблях? А - по-разному. В принципе, парусник мог иметь по одному члену экипажа на каждую тонну водоизмещения. Но это ухудшало условия обитаемости и снижало автономность. С другой стороны, чем многочисленнее был экипаж, тем более боеспособным оказывалось судно. В принципе, 20 человек могли управлять парусами крупного фрегата. Но только при хорошей погоде. Проделывать то же самое в шторм, параллельно работая на помпах и задраивая выбитые волнами крышки портов, они смогли бы незначительное время. Скорее всего, силы у них закончились бы раньше, чем у ветра. Для ведения боя на 40-ка пушечном корабле по минимуму требовалось человек 80, - 70 заряжают пушки одного борта, а еще 10 бегают по палубе и руководят. Но если корабль будет совершать такой сложный маневр, как разворот, все канонирам придется нестись с нижних палуб на мачты, - при развороте, корабль какое-то время непременно должен будет двигаться галсами против ветра, но для этого, понадобится наглухо зарифить все прямые паруса, а потом, естественно, снова раскрыть их. Если канонирам надо будет то лезть на мачты, то бежать в трюм за ядрами - много они не настреляют.
Обычно парусники предназначенные для длительных переходов или продолжительного крейсирования имели на борту одного человека на 4 тонны. Этого было достаточно для управления судном и для боя. В случае, если корабль использовался для десантных операций или абордажа, численность экипажа могла достигать одного человека на тонну.
Как они сражались? Если в море встречались два примерно равных корабля под флагами враждующих держав, то оба они начинали маневрировать с тем, что бы занять более выгодную позицию со стороны ветра. Один стремилось зайти в хвост другому, - так можно было в самый интересный момент отнять у противника ветер. Учитывая, что пушки наводились корпусом, а маневренность корабля была пропорциональна его скорости, ни кто не хотел на момент столкновения двигаться против ветра. С другой стороны, слишком набрав ветра в паруса можно было проскочить вперед и пропустить противника в тыл. Все эти танцы были оригинальны том плане, что маневрировать практически возможно было только направлением. Маневр скоростью осуществлялся косвенно, - путем занятия более или менее выгодного положения по отношению к ветру. Маневрировать, спуская и поднимая паруса было долго, - но приходилось. Каждый корабль стремился нацелить на противника свои пушки, но так, что бы избежать ответного залпа. Либо подставить свой корабль под этот залп в наименьшей проекции. В простейшем случае, корабли просто двигались параллельными курсами время от времени давая залпы с большой дистанции. Побеждал тот, кто лучше маневрировал, или у кого было больше пушек. Но часто такое противостояние оказывалось бесплодным, - после нескольких часов боя либо кончались ядра, либо одному из кораблей все надоедало и он уплывал.
Интереснее получалось если корабли сходились на 100-150 метров. Количество попаданий и их сила возрастали многократно. Роль начинала играть скорость заряжения орудий. С такой дистанции могли быть применены картечь и цепи для разрушения такелажа. Если один из противников терял мачты (особенно бушприт) и паруса (особенно косые на бушприте) он оказывался полностью во власти другого, который, например, мог пройти по корме почти впритык и в упор разрядить орудия. Корабль не имеющий скорости мог только надеяться, что противник сам сунется под его пушки. На дистанции 100-150 метров в ход шли и фальконеты. Так как с такого расстояния один залп мог решить исход боя, то побеждал тот, кто успевал дать его первым. Если попадал, конечно.
Особенно жестоким был бой, если корабли сходились на пистолетный выстрел, - то есть как раз так, чтобы не сцепиться такелажем. В этом случае, каждая пушка действовала за себя. Как только в нескольких метрах от ее дульного среза появлялся вражеский порт, она стреляла. Ну, а поскольку в том порте тоже была пушка, то у канонира имелись все шансы получить ядро прямо в глаз. Хотя с такой дистанции ни какого снаряда и не требовалось, - одной ударной волны от выстрела было достаточно. Тут уж - у кого очко раньше сыграет. Кроме того, то что корпус такого-то корабля выдерживал такие-то ядра не значило, что он выдержит их в упор. От страшных ударов мачты расшатывались, реи обрушивались, борта трескались, давая течи, трапы и палубы проваливались, пушки срывались с креплений. Бывало что от мощного залпа в упор корабль разваливался на части в буквальном смысле. Еще бывало, что он разваливался от собственного залпа. Короче, когда корабли сходились на пистолетный выстрел, побеждал более прочный и с более мужественным экипажем. Или тот, который к моменту сближения в упор сохранил пушки заряженными.
Пушки на таком расстоянии от противника, естественно, не заряжались. Корабли и не могли долго идти в упор один от другого, - скорость то у них не могла быть одинаковой. Для того, что бы не обогнать, более быстрый должен был время от времени отворачивать от ветра, - то есть менять направление движения. Корабли то сближались, то расходились.
Если сражались эскадра на эскадру, то каждый корабль прикрывал впередиидущего от обхода сзади. Но замыкающего не прикрывал ни кто. По этому, если пехота опасалась охвата с флангов, то корабли избегали охвата с головы и хвоста колонны, особенно хвоста, так как это осуществить было проще. Опасен был также и прорыв колонны, когда какая-то ее часть отсекалась противником. Фишка была в том, что когда хвост оказывался обрублен, голова эскадры не могла развернуться ему на помощь, - возвращающиеся корабли вынуждены были бы идти галсами против ветра, а такой позиции они оказались бы уязвимы как прибитые гвоздями. Отрезанные же корабли вынуждались сбросить скорость, - сзади у них отнимали ветер, спереди блокировали, - в прямом смысле блокировали, подставляя борт. Это галеры стремились ударить противника носом, а парусный корабль опасался сломать при таком ударе бушприт и превратиться в утиль. Более столкновение, кстати, ни чем не грозило. Скорости были маленькими, а постройка кораблей прочной, - так, посуда на камбузе побьется, - и все. Потерявшие же скорость (а следовательно и способность маневрируя наводить орудия) корабли расстреливались в упор. <